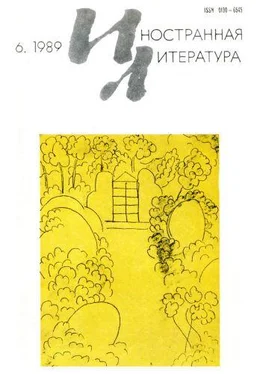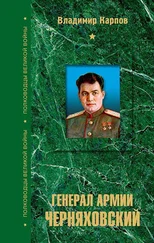— Надо же, до чего дошло! — сказал я со смехом.
— Что значит «до чего дошло»? Скажи лучше, как прекрасно, что нам дают возможность выжить! Может, мы уже гнили бы в какой-нибудь канаве и никто бы даже не знал, где искать наши кости.
— Это верно.
— А как у тебя тут насчет женского пола? — спросил он.
— Никак, — ответил я.
— Да, с этим везде туго. Один из наших приударил тут за какой-то девицей, так его отлупили будь здоров как и выгнали.
Я промолчал.
— А у тебя, приятель, мне кажется, дело на мази, — сказал он, блестя серыми хитрыми глазами. — Я уже видел дочку твоего хозяина. Что надо девочка.
— Ты в себе? — сказал я ему. — Я и думать не смею. Ты же сам говорил, как они поступают в таких случаях.
— Говори, говори, но здесь-то все по-другому. Тихое, красивое место, прямо Швейцария.
— А кулаки у мельника ты видел?
Изнутри доносился монотонный стук мельничных жерновов.
Он достал кисет и свернул сигарету так, как это делают албанские крестьяне, а затем еще одну для меня, потому что сам я так и не научился их сворачивать.
— Послушай, — сказал он, задумчиво сощурившись, — ты ничего не слышал о «Голубом батальоне»?
У меня екнуло сердце.
— Нет, — сказал я вполголоса, — а что?
— Говорят, он рыщет где-то по центральной Албании.
— Это далеко отсюда?
— Далеко, — сказал он. — Но черт его знает, всякое бывает, — и почесал в затылке.
— Ты думаешь, он может и в эти края забрести?
— Кто знает? — сказал он. — Чего не случается.
Он несколько раз молча затянулся.
— Может, он и не придет сюда, — сказал я, — а может, его разобьют албанские партизаны.
— Может быть, — сказал он, — у него были уже стычки с партизанами, и он понес большие потери, но его пополнили свежими силами.
— Какова его численность? — спросил я.
— Девятьсот человек, — сказал он, — и все — оголтелые фашисты. Устраивают резню, нагоняют страх. Ну а дезертиров…
— Что? — спросил я и почувствовал, что сердце у меня забилось быстрее.
— Расстрел на месте, дело известное.
— Святая Мария! — пробормотал я.
Мы еще посидели на пороге мельницы, поболтали о всякой всячине. Мой мельник и крестьянин степенно беседовали внутри. Когда кукуруза смололась, гости взвалили себе на плечи по мешку и отправились обратно, крестьянин впереди, солдат за ним, а мы пожелали им доброго пути.
2 апреля 1943
Сейчас, весной, у нас много работы. Отовсюду спешат крестьяне на мельницу, кто пешком, кто верхом на лошади или осле. Каждый раз, услышав звон колокольчика на шее животного, я радуюсь, что увижу людей, потому что здесь в одиночестве я просто помираю от скуки.
Мельник — человек хороший и справедливый, но уж очень он замкнутый — слова от него не дождешься. И вообще, я заметил, что албанцы очень неразговорчивы, особенно мужчины. Мельник весь день не выпускает трубку изо рта, и один бог знает, о чем он думает, утопая в клубах табачного дыма. Я больше разговариваю с его женой, «тетей Фросой», как я ее зову. Она меня расспрашивает о самых разных вещах — о родителях, о родственниках, о доме. Я говорю ей, что очень тоскую, и она с сочувствием смотрит на меня и качает головой.
— Бедняжка! — тихо говорит она и идет замешивать тесто для хлеба или мыть посуду.
— А теперь кто ухаживает за твоими овцами и козами? — спросила она меня как-то.
Я рассмеялся:
— Нет у нас ни овец, ни коз.
— А корова? — настаивала она.
— И коровы нет. Мы живем в городе.
— Да если бы и были, их бы сейчас, без тебя, волки бы сожрали. Эх, сынок, теперь и люди-то грызут друг друга, как дикие звери, не говоря уже о волках.
Я не знал, что ей ответить.
В другой раз она спросила меня о медальоне.
— А эта штука на шее у тебя для чего, сынок? На турецкую монету похожа.
Я рассмеялся.
— Это вроде опознавательного знака для солдат, чтобы нас узнали, если убьют. Вот тут, под изображением Святой Марии, есть номер, видишь?
Тетя Фроса надела очки, забавные очки с треснувшими стеклами.
— И кто тебе это дал?
— Начальники.
— Надо же! — сказала она и ушла, бормоча что-то.
Такие вот у нас разговоры с тетей Фросой. А Кристину я вижу редко и еще реже разговариваю с ней. Хотя именно с ней я хотел бы разговаривать чаще, особенно теперь, когда я более или менее прилично говорю по-албански. Но она не показывается на мельнице. Весь день хлопочет по хозяйству или вяжет. И даже когда приходит звать нас на обед, в дверях мельницы показывается всего на минуту. Скользнет по мне своими темными кроткими глазами и тут же отворачивается, я еще несколько секунд смотрю на ее каштановые волосы, а потом она исчезает.
Читать дальше