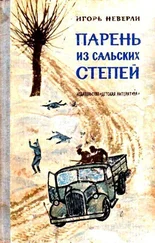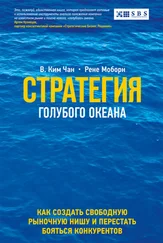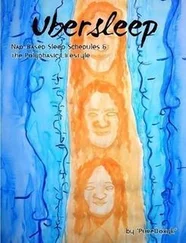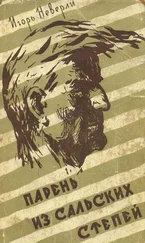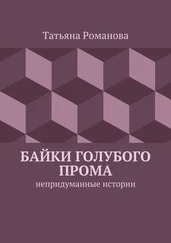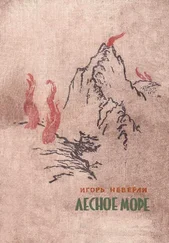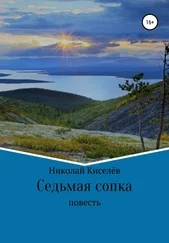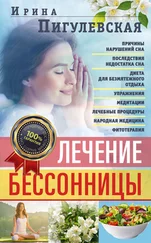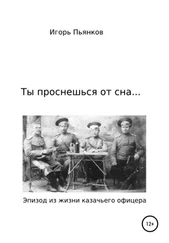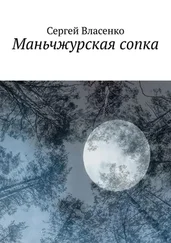— Не дружба ли с Мартьяновым и ему подобными держит вас до сих пор в Минусинске? — предположил ксендз.
— Нет. Вернуться в Польшу я мог только в 1888 году, после амнистии и восстановления в правах. А тогда у меня был самый пик успехов на прииске и в копях. Я подумал: подожду, лет через десять у меня будет большое состояние, тогда и вернусь. И так это откладывалось из года в год, то одно дело меня удерживало, то другое. К тому же, не скрою — мне нравится Сибирь. Я полюбил ее природу, ее просторы и реки, величественную тайгу и Саянские горы, полюбил климат, суровый, но полезный, сибиряков, упрямых, но честных и открытых... Года через два-три я, конечно, уеду. Но уверен, что в Польше буду скучать по Сибири.
— Что до меня, то я скучать не буду, это чересчур,— сказал ксендз Серпинский,— но здешних людей всегда буду поминать добрым словом. Никогда я не чувствовал к себе вражды, хоть я и другой веры, а вера у них, как у евреев, вопрос первостепенной важности.
— Да, эта терпимость русского народа придает ему огромную притягательную, ассимилирующую силу. Меня совсем не удивляет, что хакас Сайлотов, например, тянется к русской культуре, как ночная бабочка к лампе. Или возьмем Шерцингеров. Они давно уже забыли, что их родина — Великое княжество Баденское, провинция Шварцвальд. Моя жена не знает ни слова по-немецки, кроме «Отче наш», она сибирячка лютеранского вероисповедания. Немцы уже во втором поколении превращаются в русских, несмотря на то, что у них богатая культура и литература, что они нас опережают и в промышленности и в торговле. То же самое шведы, французы и другие нации. А нас отделяет от русских царское правительство, которое внушает своим, что их злейшие враги — поляки, евреи и велосипедисты, а нас держит в неволе и сеет ненависть, подавляя малейшее стремление к свободе... Вы согласны?
— Да, это верно. Но вот что до меня, то я перестал ненавидеть русских на каторге. Встретил там великолепных людей, попавших туда еще до меня. Это нас объединило. А раньше я просто из себя выходил при виде любого русского.
— Отчего же так?
— О, это долгая история. Чтобы объяснить, мне пришлось бы рассказать всю мою жизнь.
— Ну и что же, я охотно послушаю, как теперь растет и что впитывает в себя молодое поколение.
— Я уже пану ксендзу рассказывал...
— Нет, нет, на это не кивай, дорогой мой. Ты рассказывал в общих чертах, вокруг да около, я не слишком и понял. Чтобы понять чужую жизнь, надо в нее войти. Вот и изволь, введи нас.
— Я был бы вам очень признателен, если бы вы ознакомили меня с жизнью и чаяниями современного поляка.
— С детства, что ли, начать?
— Да, да, ведь именно там, как река в горах, жизнь берет разгон и направление.
— Ну ладно. Как я вам уже сказал, мое детство прошло в антирусской атмосфере. Среди моих близких была жива память о восстании 1863 года. Люди, вернувшиеся из Сибири, рассказывали всякие ужасы. Тайком, на мотив «Был у бабы петушок...» пели песенку:
Да поедем мы в Сибирь по этапу,
Да повезет нас казак бородатый...
Все русское было заведомо плохо. Во всех анекдотах, шутках, смешных историях, которые рассказывали друг другу, русский получался дурак дураком. Покоренный, униженный народ, инстинктивно стремясь к психической самозащите, находил в этом известное удовлетворение.
К нам приходил некий пан Станислав, бывший повстанец, который после проигранного сражения спрятался в стогу сена. Казаки прощупывали сено пиками и прокололи ему ногу насквозь, но пан Станислав не шелохнулся, не пикнул. Мы к нему относились как к национальной реликвии.
Этой атмосфере способствовала и школа. Поначалу, когда мне исполнилось семь лет, отец записал меня в городскую школу. При этом, как говорили родители, пришлось кое-кому смазать лапу. Учеба состояла в том, что учитель, обрусевший немец, задавал по учебнику отсель досель, ничего не объясняя. Ученикам запрещалось разговаривать друг с другом по-польски, за ослушание били по рукам, а то и по лицу. Обыкновенное нежелание учиться приняло форму патриотизма. И первым патриотическим актом было обмануть учителя.
Отец мой происходил из обедневших мелкопоместных дворян. У него была обивочная мастерская с мастером и несколькими рабочими. Мы жили тогда на улице Злотой, жили скромно, но безбедно. Хватало на обучение и мое, и моей сестры Халины, она младше меня на два года. Я учился хорошо, никаких забот родителям не доставляя.
Я обожал мать, любил и уважал отца, который в свободное время беседовал со мной, играл, иногда покупал подарки. Самым лучшим подарком были четыре тома сказок Глинского, купленные к Рождеству, когда мне шел седьмой год. Потом отец купил мне братьев Гримм. Я рано научился читать и брал книги в библиотеке. По воскресеньям и в праздники, если погода позволяла, мы ходили с отцом на дальние прогулки. Отец покупал в лавке колбасу или сосиски, хлеб, сыр, и мы бродили по окрестностям Варшавы. Бывали и на Саксонском острове. С Беднарской улицы нас за пару копеек перевозили на лодке на тот берег. Саксонский остров был тогда мало заселен, там стояли отдельные домики с фруктовыми садами. Владельцы этих домиков за 3-5 копеек пускали в сад, где можно было объедаться фруктами до отвала, только выносить не разрешалось. А иногда мы ходили на рыбалку. Лучше всего было ловить рыбу с больших лодок, стоявших на якоре у берега.
Читать дальше