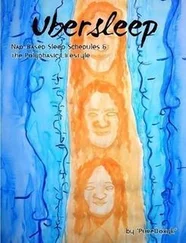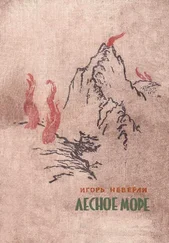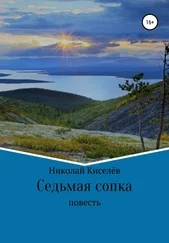— Прекрасна наша Варшава... И, помолчав, спросил тихо:
— Может, почитаем? У меня свежий номер «Курьера».
— Охотно.
Ксендз принес «Курьер Варшавский», надел очки и начал читать о праздновании пятисотлетия Грюннальдской битвы. Читая, он опустил глаза, прикрыв их пенами, и тогда явственнее проступили круги под главами, морщины вокруг рта; Бронислав вдруг увидел перед собой старого человека; ему хоть и было пятьдесят с небольшим, но по тяжелым переживаниям он тянул на все шестьдесят.
Бронислав взглянул на часы — четверть шестого. Васильев звал к пяти, и он стал прощаться, спросив, не может ли ксендз дать ему с собой немного прессы.
— Извольте,— ответил Серпинский.— Я выписываю «Дзенник Петерсбурски» и «Курьер», сейчас подберу вам номеров тридцать — сорок за последнее полугодие.
Они тепло попрощались у калитки. Бронислав, пройдя шагов двести, оглянулся — те все еще стояли: белый ксендз и выше его на голову, одетая в темное Серафима.
То ли мальчишка, у которого Бронислав спросил, где живет Шестаков, ошибся, то ли сам он сбился с пути, но он шел, шел и в конце концов вынужден был повернуть назад. Удинское оказалось куда больше, чем он думал, дворов двести, более тысячи жителей, и растянулось оно на пару верст. Словом, когда, поплутав, Бронислав подошел к дому Шестакова, был уже седьмой час.
Дом был по местным понятиям большой и нарядный, впрочем, особенно рассматривать Брониславу было некогда, он лишь успел подумать, что Васильеву повезло с тестем, или, вернее, тестю с Васильевым. Николай Чутких рассказывал, что Шестакову очень кстати пришелся зять агроном, он к нему прислушивается, следует его советам, и хозяйство у него процветает... Через крытое парадное крыльцо Бронислав прошел в сени, по обе стороны которых были расположены две одинаковые двухкомнатные квартиры, каждая со своей кухней. Он не знал, в какой половине живет Васильев, но, услышав шум голосов справа, толкнул правую дверь.
Он увидел огромный, двухведерный самовар из красной меди, массу гостей за длинным столом, кто-то с взъерошенными волосами ораторствовал и как раз в ту минуту произнес победным тоном: «Таким образом люди пришли к идее экономии путем расходов»,— замолчал и уставился на Бронислава... Остальные тоже повернулись к нему. Бронислав, решив, что ошибся дверью, пробормотал «простите» и попятился, но в этот момент к нему протолкнулся Васильев, взял под руку: «Вы, товарищ, опоздали, мы не могли больше ждать»,— и с улыбкой подвел к сидевшей у самовара хозяйке, молоденькой, прелестной женщине, чью беременность не могли скрыть складки расклешенного платья: «А вот моя жена, Настенька, которая празднует сегодня свое двадцатилетие».
Смущенный Бронислав поздравил, извинился, что пришел с пустыми руками, ему никто не сказал...
Гости начали смеяться. Оказалось, что большинство из них попало впросак таким же образом. Васильев приглашал просто на вечеринку, ни словом не обмолвившись о дне рождения.
Когда отсмеялись, он представил Бронислава: «Наш сосед из Старых Чумов, Бронислав Эдвардович Найдаровский, прибыл из Акатуя».
Бронислав поклонился, попросил прощения за опоздание, сел. Настенька подала ему стакан чаю и пирог, а Васильев сказал:
— Мы слушаем вас, Веньямин Игнатьевич, продолжайте.
Человек со странной плешью, выглядевшей так, словно ему машинкой выстригли под ноль дорожку в середине головы, оставив по сторонам длинные, густые, с проседью, а на кончиках белые волосы, отчего он казался выше и как бы вдохновеннее, встряхнул своей необычной шевелюрой и взглянул на присутствующих поверх очков в никелевой оправе:
— Итак, ткачи английского города Рочдейла в 1844 году пришли к идее экономии путем расходов!
Он рассказывал историю кооперативного движения, хорошо знакомую Брониславу, а в это время Васильев, подсев сзади, шепотом объяснял: «Это Косой, директор школы, общественник, всегда с нами, эсеры, меньшевики, большевики, ему все едино...» Про молодую женщину лет тридцати: «Эта блондинка — Надежда Барвенкова, большевичка...» Про мужчину с ярко выраженной еврейской внешностью: «Лев Самойлович Фрумкин, меньшевик, мухи не обидит, но упрямый догматик...» Про седеющего, богатырского сложения мужчину в вышитой косоворотке: «Фома Никитич Тетюхин, народоволец, двадцать лет ссылки, остался жить в Сибири, хороший фельдшер, лучше иного доктора...» Потом он показал на интересного розовощекого молодого человека: «Петя Любочкин, учился в школе у Веньямина Игнатьевича, немногим старше Настеньки, двадцать два года, очень способный, работает у Зотова и конторе «Самородка», тридцать верст отсюда...»
Читать дальше