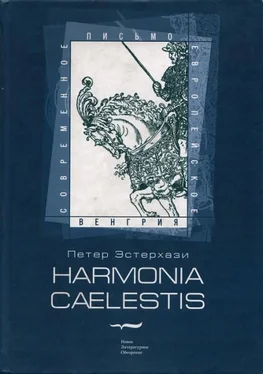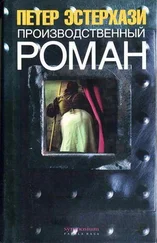187
Мой отец средствами математической логики доказал — теорема моего отца, 1931, — что в рамках любой достаточно сложной непротиворечивой теории не все утверждения могут быть доказаны средствами самой теории. Но хоть какие-то могут быть, фыркнула моя мать. Мой отец был в ярости, да что ты в этом соображаешь?! орал он, чистая логика не имеет, и в принципе не может иметь, однозначного определения. Он раздраженно пыхтел. Если ты, дорогая, предложишь мне свое понимание логики, то я смогу предложить игру, в которой, следуя этой логике, мы оба вылетим в трубу. Ты понимаешь меня? Моя мать чуть заметно пожала плечами. Иными словами, если мы будем следовать этой логике, то проиграем оба, и ты, и я, а если бы мы избрали другую логику, то оба могли бы выиграть. В том-то вся и беда, кивнула мать, что ты думаешь, будто жизнь — игра. Мой отец гордо выпрямился. Именно так. Игра. В лучшем случае. И он склонил голову. Дорогая, я понимаю, что для тебя это потрясение. И, наверное, пройдет не один десяток лет, прежде чем ты научишься с поднятой головой относиться к своей ограниченности. Моя мать так и побагровела, ну знаешь ли, дорогой Мати, всему, в том числе и наглости, есть пределы!
188
Социальным психологам давно известно (теория + опыт), что для возникновения взаимного доверия и настоящей близости нередко требуется грубая ссора или серьезный конфликт. Например, мой отец начал доверять Малютке Джону только после того, как они хорошенько подрались. Поначалу моя мать с готовностью следовала этой теории и лупила отца смертным боем, но какое-то время спустя силы ее иссякли, она подошла к отцу и погладила его по щеке, Матика, нам не так много осталось, не стоит тратить время на ссоры, черт с ней, с близостью, обойдемся. Но отец в ту пору мог думать одновременно уже только об одной вещи, конкретно — о семейной гармонии, и, памятуя об «Укрощении строптивой», въехал матери в рожу. Ведь Петруччио, как мы знаем, пари-то выиграл… Мать утирала разбитый нос.
189
Мой отец едва не ударил мать, в чем — естественно — не было бы ничего необычного, однако на этот раз он только нещадно встряхнул ее за грудки (если можно так выразиться) и унесся на кухню. Он шагал взад-вперед, задыхаясь и вполголоса матеря мою мать, которая осмелилась сделать некое обобщающее и печальное замечание относительно собственной жизни. (Это был не упрек, а скорей констатация жизненного фиаско, то есть все же упрек.) Он рванул дверцу холодильника, где было молоко: бутылка и два пластиковых пакета. Бутылку он тут же шмякнул об пол, молочно-стеклянные брызги разлетелись по кухне; а пластиковый пакет стал рвать зубами, обрызгал себе лицо, о дьявол! швырнул оба пакета на пол и стал их топтать. Вся кухня была в скрежещущем под ногами молоке. Но этого было мало. Он выхватил из буфета мед — одну банку и тюбик. Уже как бы по привычке банку он хрястнул об пол, а из тюбика стал выдавливать текучее золото; все кругом липло и чавкало. Как было бы замечательно, если бы в этот момент моя мать тихонько прокралась в кухню, взглянула на разъяренного мужа, топчущегося на липком полу, одна пола рубахи выбилась из брюк, взгляд бешеный, все в нем какое-то временное, жесты, гримасы, чувства, — и, вступив в это непривычное сладкое чавкающее пространство, обняла бы поименованного мужчину и прошептала: ну полно, полно тебе, вот он — наш Ханаан, где течет молоко и мед. Вместо этого мой отец выбежал из кухни, сорвал мать с софы, где та сидела, раздумывая, плакать ей или не плакать, и потащил ее в кухню с воплем: я введу тебя в землю, где течет молоко и мед, но сам не пойду с тобой, чтобы не погубить мне тебя на пути, потому что народ ты жестоковыйный!
190
О предках-галерниках, о королевском советнике, о Беле IV и гайдуцком капитане матушка рассказывала несравнимо больше, чем о моем отце; когда мы на нее слишком уж наседали, она неохотно уступала и сообщала о нем какие-то странные вещи: он у нее был то помещиком, то никем, то служащим на заводе Ганца в Пеште, то — это был самый абсурдный и потому самый увлекательный вариант — директором купальни.
191
О том, каковы реальные доходы моего отца, моя мать узнала случайно (но это была не та случайность, что в деле Райка). На главной улице она столкнулась с коллегой отца по работе в торговом банке. Чиновник приподнял шляпу и хотел пройти дальше, но матушка остановила его. Не полагается такого спрашивать, спросила она, но все же: сколько вы получаете? Коллега отца назвал сумму и добавил: это ровно на восемьдесят две кроны меньше, чем у отца. До разговора дело дошло лишь вечером, когда дети были уложены спать. Моя мать попросила мужа (моего отца) объяснить ей, как это получается, что они живут в таком невероятном достатке. Она думала, что мой отец растеряется, но он не растерялся. Он ответил ей: За счет займов. Займов? испугалась мать. У кого же вы одалживали? У всех, ответил отец. Матушка была так изумлена, что даже и расспрашивать далее не могла, но отец говорил уже сам, и то, что он говорил, в полной своей абсурдности было столь великолепно, что простые эти слова сразу же обезоружили мою мать. Я хотел, чтобы вы (моя матушка) начали жить сначала, чтобы вы получили компенсацию за сломанную и униженную молодость. Я люблю вас, я хотел, чтобы вы радовались, чтобы у вас каждый день была новая причина для радости. Я хотел, чтобы вы узнали, что такое сказка. Разве вы не узнали это? Разве у вас не было оснований для радости? Но это же безумие! ответила матушка. Господи, какое же это безумие! И кто вам давал взаймы в такое время, когда и кредита не существует? Говорю же: все, повернулся он к ней; ей казалось, что она знает это лицо, но до смерти так и не узнала его (и не только она, никто). Моя мать кивнула: в это было нетрудно поверить. Разве мог кто-нибудь в чем-либо отказать этому человеку? А продукты? допытывалась она. Продукты посылали сестры из деревни, ответил мой отец, и тут голос его впервые дрогнул. От себя отнимая. Матушка мысленно представила себе молчаливых барышень, из которых ей с трудом удалось вытянуть несколько слов; она встала, вынула из школьной сумки Белушки тетрадку и попросила мужа (моего отца) продиктовать ей, кому и сколько он должен. — С этого дня мы будем жить, как все прочие бедняки, и вернем все долги. Если я еще раз узнаю, что вы у кого-то взяли денег в долг, я разведусь с вами. Скоро родится ребенок, ваш ребенок. С чем вы: собираетесь выпустить его в жизнь? Вы на меня сердитесь? спросил мой отец, и голос у него совсем не звучал виновато; он улыбался, будто его забавляло, какая у него серьезная, какая строгая женушка (моя мать). Вы считаете, что я вас обманул? Вопрос опять-таки звучал абсурдно, потому что он ее в самом деле обманул, но не так, как вообще обманывают, — не в ущерб ей, а на пользу; что тут можно было сказать? Ты сердилась тогда? спросил у моей матери ее сын несколько десятков лет спустя. Они сидели, дымя сигаретами; она (моя мать) пила кофе. Она потрясла головой, и потом они лишь смотрели друг на друга, хранители великих тайн, жена моего отца и его ребенок. Господи, разве мог на него кто-нибудь сердиться?
Читать дальше