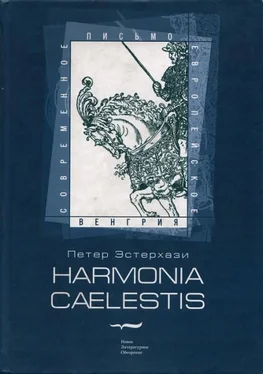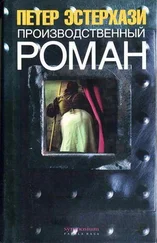— Мои поздравления, старина, так держать, удачной тебе работы. Тут товарищи хотят с тобой побеседовать.
Долго слушал мой брат товарищеские слова, по-своему вежливые, не приторно-ласковые, то есть, по сути, не угрожающие, а скорее спокойные, чему быть, того уж не миновать, не заговорщицкие; но говорили они не прямо, хотя не без основания полагали, что мой брат осведомлен, например, о «номере с душем», куда полагалось селить западногерманских охотников и который получил свое название из-за душевых розеток с вмонтированными в них «жучками»; слушал-слушал мой брат этих наскучивших самим себе звонарей, талдычивших ему об ответственности, связанной с его новой должностью («эти кретины и о тебе сделали мерзкое замечание, думали, я куплюсь»), — и, хотя он был человеком практической сметки, до него не сразу дошло, о чем речь, а когда дошло, то он понял, что товарищи хотят отобрать у него сразу все, посягают на всю его жизнь, и покачал большой головой, нет, не хочет он им отдавать свою жизнь, которую он собирался потратить на воплощение стольких планов, а с другой стороны, работать ему здесь нравилось, он чувствовал, что его уважают, чувствовал, как растет его власть, которой он пользовался с удовольствием, полагая, что создан для власти, что от власти голова у него не закружится и он будет ее употреблять с умом.
И тогда мой брат улыбнулся.
Заместитель директора — тоже, и даже у двух товарищей рожи сморщились, изображая нечто вроде улыбки. Все молчали. Четверо улыбающихся мужчин. И в этом безмолвии самый младший из них тихо, ласково, как подросток, проговорил:
— О любезные рыцари-господа мои, а не пойти ли вам на хуй?! — и с тем, поклонившись галантно, как будто он был не слугой, а графом, удалился из кабинета.
— Ну даешь, старина… — ошеломленно пробормотал заместитель директора.
Трогать его не стали; пусть живет. (Правда, пришлось уйти из отеля. О чем он жалел, потому что ему там нравилось.)
197
Благодаря этим купонным вылазкам родители наши на практике могли убедиться в пользе изучения иностранных языков. А мы и не сопротивлялись, болтали вовсю, тем более что у отца не было возможности нас поправлять. Обычно он поправлял всех: корректно, вежливо и неумолимо. Организм его, видимо, не переносил неправильного склонения. У него начиналась желтуха. (Или это от выпивки? Шутка.) Не щадил он и мать, поскольку дело было, собственно, не в ней, а в склонении. И теперь он со злодейской надменностью разгуливал в темном лесу всех этих der, die, das, не боясь заблудиться.
Самой верной картой в этом обмане были, разумеется, мы, дети. И, честно сказать, главное тут — не знание языка, а штаны. Родители, наряжая нас холодным, ветреным мартовским днем в кожаные портки, били наверняка.
Кожаные портки — вещь весьма специфическая и здоровому венгерскому духу, в том числе и нашему, изначально чуждая, подозрительная. Но зато, подобно плащу из болоньи или, положим, джинсам, — западная. Кожаные так кожаные — джентльмен не привык удивляться. Хотя с какой стати я должен чувствовать себя отпрыском какого-нибудь баварского фермера, от которого несет навозом?
Короче, мы их носили. И надо сказать, что подлинное свое «я», всю свою индивидуальность кожаные портки проявляют, когда их носят. Бывают они двух типов — гладкие и шершавые. Мой братишка был обладателем гладких, я — шершавых, ну а насчет сестренки уже не помню — помню только, как забавно торчали из этих штанов ее тоненькие, будто паучьи лапки, ножонки. Описываемые штаны имеют одно замечательное свойство — не пачкаться. Этого они не умеют, не могут, это не их философия; если грязь на матерчатых брюках выглядит просто скандалом, на джинсах — спустя какое-то время — иллюзией грязи, то здесь это благородная патина. Какое сладкое наслаждение — прилюдно и с полным правом вытирать грязные или даже жирные руки о штаны!
— Так принято! — затыкали мы рот сомневающейся матери, ссылаясь при этом (генеалогически не совсем корректно) на австрийскую ветвь семьи. И штаны со временем созревали. Время, воплотившееся в красоту, — вот что такое кожаные штаны.
Проедание купонов считалось нравственным долгом («не этим же оставлять!»), поэтому выбирать приходилось самые дорогие блюда. Поначалу мы чувствовали себя неудобно — джентльмен не разглядывает правую сторону меню…
— Если только, — воздевает палец отец, — он не имеет проблем с ликвидностью! Но это проблемы временные!
…В конце концов нами овладевает неведомое сладостное ощущение: головокружение от богатства. Ничего подобного мы раньше не испытывали, но привыкли довольно скоро. Богатство, как и бедность, быстро усвоили мы, накладывает на человека ограничения, и мы, например, не могли заказать овощной гарнир без мяса, а, скажем, только оленину на вертеле, что, разумеется, ущемляло нашу независимость — ну и ладно, пусть ущемляет! Родителям мы дали понять, что если они по каким-то принципиальным соображениям еще не решили, что богатым быть лучше, чем бедным, то для нас вопрос ясен.
Читать дальше