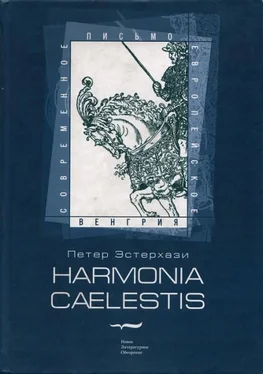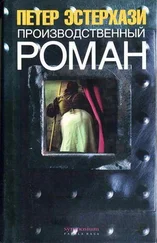— Пить надо меньше, мать твою!
На сей раз отец раздражения не скрывал, а обратил его на окружающих.
— Да пошли вы! не видите, ему плохо?! вы думаете, мы тут развлекаемся?! — И грубым движением вытер мне рот. Было больно. Рукав его рубашки покрылся пятнами, но отца это не волновало, в физическом смысле он никогда и ничем не брезговал. Я никогда не видел на его лице отвращения, никогда и ни по какому поводу.
За исключением одного случая.
117
Семья моей матери была не в восторге от этого брака. Хотя в то время, в 1947–1948 годах, трудовые отношения между дедом моим по отцу и дедом по матери уже прекратились, забыть обо всем, разумеется, было невозможно. Но невозможно было и обвинить мою мать в желании сесть кому-то на шею. Такому обвинителю явно бы изменяло чувство исторического ритма. Отца в это время можно было уже любить разве что за красивые глаза. Младший брат моей матери дядя Эндре (все звали его дядя Плюх, потому что в Сент-Яноше был огромный сад, а в саду том — скороспелая груша, к которой якобы дядя Плюх, будучи еще совсем мальцом, подтаскивал свой детский стульчик и сидел там часами, наблюдая за грушами, пока какая-нибудь из них не срывалась с ветки; малыш тогда кивал головой, произнося: «плюх», что до четырехлетнего возраста оставалось единственным словом его лексикона), так вот, дядя Эндре, вернувшийся с войны в октябре 1947-го, тоже не одобрял этот брак, хотя отца моего он любил, они были с ним одногодки, в один год попали в Будапешт, записавшись в университет, а затем — в офицерскую школу «Людовика». Вместе они познавали и ночной Будапешт, и бар «Табан», что на улице Хаднадь, а в том баре — официантку Мицике!
— Как-то мы просадили там пенге десять или пятнадцать. А руки наши встретились на коленке Мицике! Ну и смеялись же мы все втроем. А что еще нам оставалось?
Дядя Плюх говорил своей милой сестрице:
— Запомни, семейство аристократов скорее потерпит, чтобы отпрыск их взял в жены продажную девку, чем девицу из захудалого рода. Семья у них щедрая, да щедрость свою они обращают лишь друг на друга. И что бы они ни говорили, тебя всегда будут презирать. И в первую очередь — твой будущий свекор. Помни, всяка сосна своему бору шумит, — говорил он.
Дядя Плюх был не то чтобы строг, а скорее педантичен, у него были свои принципы, которых он придерживался неукоснительно. Свои принципы — причем самые что ни на есть принципиальные — имелись у дяди Плюха и в области педагогики, и матушке от него часто доставалось за наше в корне ошибочное воспитание. Самое странное, что она не восставала против его желания как-то поправить дело, не высмеивала его, не гнала прочь, а давала — пусть минимальный — простор для его деятельности.
В качестве первого шага дядя Плюх завел в доме так называемый Черный Гроссбух — черного цвета тетрадку, куда заносились все наши упущения и провинности, а также разнообразные проявления нерадивости, и в той же строке — наказания (запреты и отработки), а также отметка об исполнении наказания.
Этот новый, неведомый нам армейский порядок мы переносили с каменными физиономиями и без малейшего признака возмущения. Мать просто диву давалась, не узнавая своих детей: к такой помощи с нашей стороны она как-то не привыкла.
Хотя мы всегда помогали ей, регулярно ходили в магазин за покупками со списком того, что купить и — в скобках — чем заменить, если нужного нет, мы знали все наизусть, бояться за нас было нечего: десять булочек, два кило хлеба, двести граммов «паризера» (она никогда не писала — вареной, что то же самое). Салями, наоборот, мама всегда записывала как «Пик» (но в магазине мы все же спрашивали салями). Правда, этот деликатес покупали мы редко и всегда не нарезанным, а кусочком, потому что салями резала мама. К этому делу не допускался даже отец, потому что все, кроме Мамочки, резали (бы) слишком толсто. Как-то раз я втихую, по-воровски смолотил кусман толщиной в палец, словно это был ломоть хлеба или домашней колбасы, но вкус салями оказался совсем другим; нечистая совесть и колдовские чары греха, как видно, воздействуют на вкусовые рецепторы. Таких тоненьких кружочков салями, как у Мамочки, я никогда не видал. Чудо, а не кружочки, через них даже солнце просвечивало. Мы знали, сколько кружков полагалось класть на ломоть хлеба. У дяди Плюха, наверное, был бы установлен даже процент: какую часть поверхности хлеба должна покрывать колбаса, и он заставлял бы нас этот процент вычислять. Позднее, уже в гимназии, я ходил к нему совершенствоваться в высшем, как он выражался, матезисе. Склад ума у него был скорее инженерный, а не математический, но в его голове царил редкостный порядок, что оказывало на меня благотворное влияние. Он спокойно — в отличие от меня, в таких случаях изумлявшегося, — относился даже к тому, что некоторые задачи мы не могли с ним решить.
Читать дальше