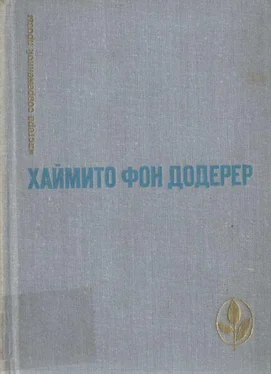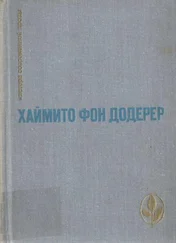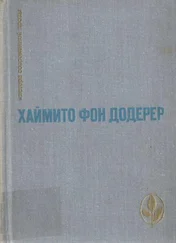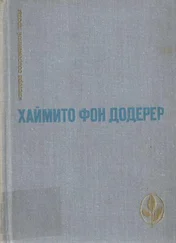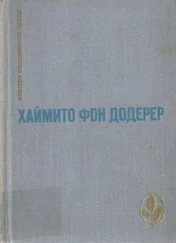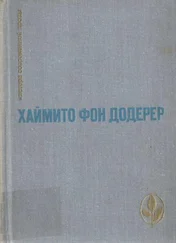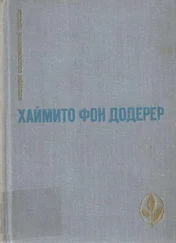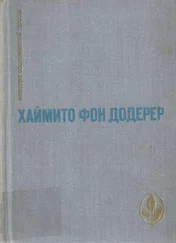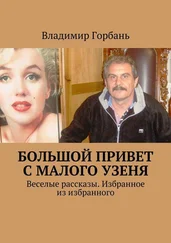— Господин Глобуш, — сказала Феверль, под столь странным солнцем она быстро выросла, теперь она была нормального роста, а не игрушечного. (Может быть, здесь следует вспомнить доктора Грундля и сказать: «Социально-этическая игрушка госпожи Бахлер»?) — Мы обе из совсем других краев. Чему учили девочек в Подерсдорфе, вы сами знаете. А нам было уже около двадцати, что же дальше-то делать, ясно — ехать в Вену. Нам необходимо было попасть в Вену, и ничто уже нас не могло удержать.
— Вечная история, — произнес господин Глобуш. — Да еще в тех краях, добавил он, обращаясь к госпоже Рите. — Дело в том… да и дела-то никакого нет. До Вены рукой подать, а черт не дремлет.
Он живо выспросил у Фини и Феверль все касательно полевых работ и даже работ на виноградниках, а также об их сноровке в работах под крышей дома, в обхождении с тростником и маисовой соломой. Рита присутствовала при этом разговоре как третье лицо, поскольку Фини и Феверль сходили здесь за единое целое.
— У меня все по струнке ходят, — продолжал Глобуш, — но когда вдруг срочно понадобится помощь или надо кого-то заменить, тут всех и след простыл, а если надо снести письмо на почту или сапоги почистить, бегай за ними, ищи. Поступайте ко мне, станете адъютантами старика Глобуша, а у меня будет кого куда послать, и свой утренний кофе я буду пить вовремя. Мужчины вам, уж конечно, обрыдли, не знаю я, что ли. Все у меня по-хозяйски, любой человек при деле.
Под солнцем Глобуша таяли все сомнения. Феверль и Фини больше уж не владели разговором; возможно, впрочем, что детство и юность, проведенные под высоким голубым небом на берегу отражавшего его пруда в такой же вот открытой всем ветрам деревне, сейчас оказались немаловажным, хотя и не слишком разумным, фактором.
* * *
В полицию им предстояло отправиться, чтобы заверить свидетельство будущего хозяина, что он действительно взял их в услужение; и каждая получила соответствующую бумагу. Кроме того, госпожа Рита Бахлер имела предварительный разговор с доктором Грундлем, и он внушил им, что они должны подать заявление о снятии с учета. Врачебная справка была им выдана после того, как он самолично еще раз осмотрел их, затем он пошел с обеими женщинами по длинному побеленному, но полутемному коридору в кабинет советника полиции. В их пользу говорило и то, что они не собирались оставаться в Вене, а, напротив, хотели переменить местожительство.
И все же у Фини и Феверль было чувство, что они проглотили какое-то объемистое инородное тело. Назвать его они не могли, оно не состояло из отдельных конкретных деталей, хотя таковых теперь было предостаточно по сравнению с простотой и бездельем их прежней жизни: хождение в полицию (так просто от желтого билета не отделаешься), покупки башмаков погрубее для сельской жизни, отказ от привычной квартирки — надо сказать, что квартирная плата была внесена ими за весь июль и это очень облегчило их положение, — наконец, покупка большого чемодана и еще многого другого… Но не эта мозаика мелочей занимала их, в ней они не растворялись. От такой суеты их оберегали не раз уже упомянутые нами два отличительных свойства их скромной жизни, и теперь они, сами того не подозревая, как бы кормились старыми, накопленными запасами пустоты и безразличия, которые им оставила в наследство жизнь, доселе проходившая без каких бы то ни было событий. Тем более остро сейчас они ощущали то новое, что предстояло им — они отлично понимали, как оно близко, у них достало и слуха и чувства понять, что одна дверь открывается им в то самое мгновенье, когда захлопывается другая. Это сознание они сносили терпеливо, покорно, ни о чем не спрашивая. Они уже не помышляли об утраченных возможностях, поскольку таковых более не существовало, после того как они решили все начать сначала. В общем-то, они, можно сказать, плавали на поверхности, как два одновременно упавших в воду листа, не видя глуби, но на свой простецкий лад зная о ней. Или, вернее, Феверль и Фини, иначе Фини и Феверль, воспринимали то новое, что отныне их окружало, не только разумно, но в известной мере лирически.
Лирической была и боль из-за прерванного купания. Голубизна воды в военной плавательной школе в Пратере была утратой, но самой большой утратой были навеки канувшие часы — прекрасные, мирные, ни на что, кроме самих себя, не направленные, часы, наполненные солнцем, испарениями мокрых досок и плеском воды.
Напоследок они еще раз пошли туда, но уже не ныряли до самого дна этой прежней чаши, вбиравшей в себя их существование так дружелюбно и нежно. Сейчас чаша блестела, словно они на нее смотрели сбоку, из некоторого отдаления. Оттуда — в Адамов переулок, при свете дня, чтобы захватить кой-какие мелочи из принадлежностей туалета, которые всегда там оставляли.
Читать дальше