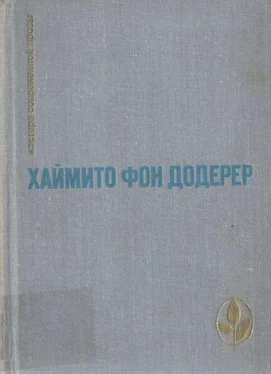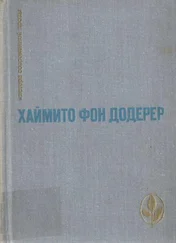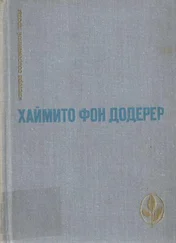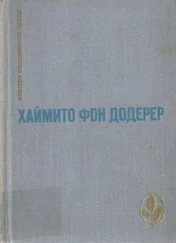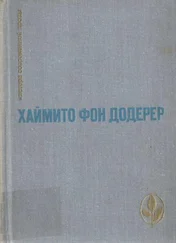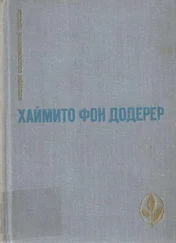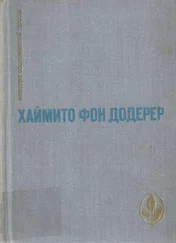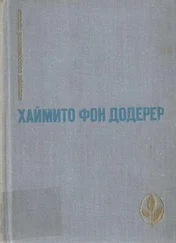Возможно, здесь дело было в разнице возрастов, определявшей особенность ситуации, и в той почти нежной и заботливой заинтересованности Хвостика в жизни младшего друга, о которой мы все-таки хотим сказать, что она проистекала из своеобразного чувства вины. В таком случае это чувство было уж очень возвышенным.
Он считал себя одиноким. Мило уехал. С ним Хвостик не мог, как раньше, беседовать о делах, что всегда действовало на него благотворно. Но теперь словно засов задвинули. Груз доверия, взваленный на него Робертом Клейтоном, с тех пор как он вместе с Моникой находился в «Альпийском подворье», сделал невозможным подобные беседы.
Дойдя до церкви св. Павла, они пошли дальше, углубляясь в центр города. От запаха асфальта, выдыхавшего из себя дневной жар, у Хвостика появилось предощущение жаркого лета в городе. Это было по ту сторону путешествия, позади него. Об этом путешествии он сейчас и толковал Дональду, тем самым как бы продвигаясь вперед ощупью, и уже почувствовал, что здесь — боль, боль, связанная с этим путешествием, и что сейчас он как бы задел и сдвинул плохо сидящую повязку, которая страшилась любого прикосновения и разумно прикрывала рану.
Поэтому-то Дональд и сам заговорил о поездке, все приготовления к ней были уже завершены.
Старина Пени догадывался, почему Дональд захотел идти пешком: это был страх одиночества там, на пустой вилле, на краю Пратера. И ему, хотя сам он никогда в жизни не вылезал так из собственной шкуры, как теперь Дональд, был ведом страх, который неизбежно поджидает каждого, кто уже не рассчитывает на размягчающую и разрушительную поддержку повседневности, ибо утратил способность ею воспользоваться.
И в то время как Хвостик бок о бок с Дональдом шагал в направлении Кернтнерштрассе, прописная истина касательно перемены места как лучшего средства против несчастной любви вдруг показалась ему весьма сомнительной. Все равно никуда от нее не денешься.
Удивительно, как этот Хвостик умел выйти за пределы собственного опыта, ему помогало врожденное сознание жизненных бурь, хотя именно они больше всего пощадили убогую молодость Хвостика, вероятно только потому, что бедность и жизненные невзгоды не оставили для них места.
В те времена, когда мы вместе с обоими господами проходим мимо Оперы, города по ночам еще не были оживлены, как нынче, разноцветной и растворяющейся вдали игрой света; зато непережитым осталось и то, как все это затемнялось со дня на день, — темные глыбы под гнетом страха. Хвостик и Дональд свернули вправо на пешеходную аллею Рингштрассе. Дональд замедлил шаги. Здесь уличный шум не помешал бы им говорить. Лишь изредка по широкой мостовой, над которой еще не парила яркая цепь электрических лампочек, проезжали автомобили или фиакры. Но высокие дуговые фонари вечное полнолуние больших городов — все вокруг заливали молочным светом.
Лишь возле Городского парка Дональд решился:
— Господин Хвостик, — сказал он по-английски, — это предстоящее нам путешествие весьма желательно мне в сугубо личном смысле. В последнее время я потерпел неудачу. Может быть, мне нужно навсегда покинуть эти края. Поехать, например, в Чифлингтон, на тамошний завод.
— Мне было бы чрезвычайно жаль, — сказал Хвостик и в тот же миг понял, что эти слова могут оказаться последними откровенными и прямыми словами, которые он скажет Дональду, в том случае, если и тот почтит его, Хвостика, своим доверием. Он чувствовал, что этот момент уже близок. Если Дональд станет выражаться яснее, то Хвостиково положение будет очень и очень неловким. Хвостик остро ощущал приближение опасности.
Дональд заговорил о Монике, назвал ее по имени. Это было, если можно так выразиться, его грехопадение, вызванное внезапным приступом слабости, может быть, вследствие физического переутомления, а может быть, и от непривычки к спиртным напиткам. Но Хвостика он тем самым поверг в настоящий конфликт с самим собой, причины которого, конечно же, коренились не в сиюминутной слабости.
Дональд мало что сказал, и ничего особенно умного, к тому же его слова были не в ладах с истиной. Но как же может быть иначе? Что он мог бы рассказать, что осветить? Ему пришлось бы тогда говорить и о необъяснимом, может быть, о дурноте накануне приема в саду, о том, как в комнате стемнело из-за дождя, — но как раз это-то он и отмел с самого начала. Это все не имело ничего общего с Моникой. И все-таки. Он сказал:
— Как мне это ни больно, но я так и не сумел установить с ней настоящего контакта.
Читать дальше