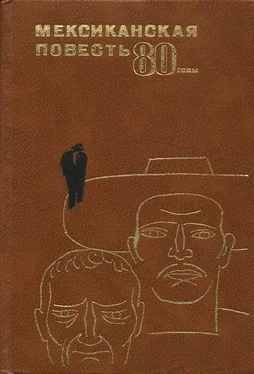Сама она ни к чему не прикоснулась. И все время говорила, говорила со мной. Джим помалкивал, поедая «тарелочки» одну за другой. Мариана спросила: «А чем занимается твой папа?» Мне стало не по себе, но я ответил, что — у него завод, там делают мыло, туалетное и стиральное. Но моющие средства его вот-вот разорят вконец. «Да? Никогда бы не подумала». Пауза, молчание. «Сколько у тебя братьев?» — «Один. И еще три сестры». — «Вы здешние, из столицы?» — «Нет, только самая маленькая сестренка и я здесь родились, а вообще мы из Гвадалахары. Там на улице Сан-Франсиско у нас был большой дом. Но его уже снесли». — «А в школе тебе нравится?» — «Школа наша ничего — ‘правда, Джим? — только ребята очень приставучие».
«С вашего разрешения, сеньора, я пойду. (Как я мог ей объяснить, что, приди я позже восьми, меня убьют?) Огромнейшее вам спасибо. Все было замечательно, правда. А маму я попрошу, чтобы она купила такой же аппарат — поджаривать „летающие тарелочки». «Такие в Мексике не делают, — подал голос Джим. — Хочешь, я привезу тебе такой — скоро я снова в Соединенные Штаты поеду».
«Приходи как к себе домой. Обязательно приходи». — «Еще раз большое спасибо, сеньора. Спасибо, Джим. До понедельника». Как мне хотелось остаться у них навсегда или хотя бы унести с собой фотографию Марианы — ту, что висела в прихожей! Добираясь до своего дома в Сакатекасе, я шел по Табаско, повернул на Кордову. Фонари на столбах, покрашенных серебрянкой, почти не освещали тротуары. Город погрузился в полумрак, колония Рома казалась полной тайн. Она была как крохотная частичка в бесконечно огромном мироздании, будто специально создана за много лет до моего рождения — подмостки, на которых мне предстоит выступать. Где-то на электрофоне играла пластинка с пуэрто-риканским болеро. До этого музыкой для меня были только национальный гимн, песнопения в церкви на май, детские песенки Кри-Кри [89] Псевдоним популярного в те годы в Мексике детского композитора.
— «Лошадки», «Парад букв», «Негритенок-арбуз», «Мышонок-ковбой», «Хуан Пестаньяс» — и еще словно бы бесконечная, затягивающая, обволакивающая музыка Равеля, которой радиостанция XEQ начинала передачи в пол седьмого утра; мой отец включал приемник, чтобы разбудить меня громом музыкальной заставки к передаче «Для тех, кто рано встает». Но сейчас, слушая другое болеро, ничего общего не имевшее с равелевским, я впервые расслышал его слова: «Какое бы ни было небо высокое, какое бы ни было море глубокое».
Глядя на проспект Альваро Обрегона, я сказал себе: «Я навсегда сохраню в памяти эту минуту, и отныне все станет иным. Когда-нибудь я вспомню сегодняшний день, словно это глубокая древность. Но я никогда не забуду дня, когда влюбился в Мариану». Что же теперь будет дальше? Ничего не будет. Ничего и быть не может. Что же мне делать? Перейти в другую школу, чтобы не видеть Джима, а значит, и Мариану? Или подыскать себе девочку моего возраста? Но в моем возрасте девочек себе не подыскивают. Единственное, что в таком возрасте можно себе позволить, — это любить втайне, молча, как я уже полюбил Мариану. Любить, твердо зная заранее, что рассчитывать не на что, никакой надежды нет и не будет.
«Как ты смеешь приходить так поздно?» — «Мама, я же говорил вам, что пойду в гости к Джиму». — «Да, но никто не разрешал тебе возвращаться домой в это время: уже полдевятого. Извелась вся, думала, тебя убили или Человек с мешком украл. И какой гадостью тебя кормили на этот раз? Представляю, что за родители у твоего дружка. Это тот самый, с которым ты в кино ходишь?» — «Да, и папа у него очень важный человек. Он в правительстве работает». — «В правительстве? И при этом живет в такой развалюхе? А почему ты мне о нем раньше ничего не говорил? Как, ты сказал, его зовут? Неправда, я знаю его жену. Она близкая подруга твоей тетки Елены. Никаких у них нет детей. Настоящая трагедия: такие связи, столько денег, а детей нет. Да тебя за дурачка принимают, Карлитос. Одному богу известно — зачем. Надо поговорить с учителем — может, он внесет во все это ясность». — «Ради бога, умоляю вас, не надо: не говорите ничего Мондрагону. Что мама Джима подумает, если узнает, что мы о ней расспрашиваем? Сеньора была ко мне очень добра». — «Вот как, этого нам не хватало. Что за тайны у тебя? Говори правду: ты точно был дома у этого Джима?»
Мне удалось успокоить мать. И все же она продолжала подозревать что-то. Очень это была грустная неделя. Я снова стал маленьким ребенком, меня заставили гулять на площади Ахуско, в одиночестве играть с моими деревянными каталочками — на площади Ахуско, куда меня привозили, когда я только родился, чтобы греть на солнышке, там я и ходить учился. Дома вокруг площади построили еще при Порфирио Диасе, многие теперь сносили, на их месте возводили новые, ужасающей архитектуры. Посреди площади был фонтан в форме восьмерки, по поверхности воды скользили насекомые. Между парком и моим домом жила донья Сара П. де Мадеро. Когда я издали смотрел на старую даму, о которой писали в учебниках истории — она была в центре событий, происходивших лет сорок назад, — глазам своим не верил. Это была хрупкая, полная достоинства старушка, всегда в трауре по убитому мужу.
Читать дальше