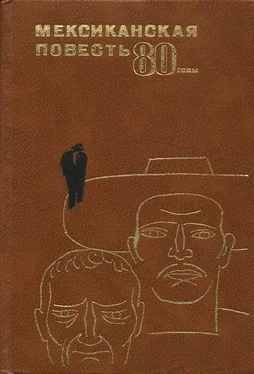Если собаки помнят друг о друге, как говорила донья Мануэлита, то люди забывают о своих ближних и о самих себе, отвечал ей Ниньо Луис. В час ужина он любил вспоминать о большом доме в Орисабе, с белым фасадом и зарешеченными окнами, а сзади дома был крутой и влажный овраг, пахнувший мангровыми зарослями и черными платанами. На дне оврага несмолкаемо журчал порывистый ручей, а там, наверху, всю Орисабу опоясывали огромные горы, такие близкие, что даже страшно. Будто живешь под боком у гиганта, увенчанного короной облаков. А дожди шли и шли, без конца.
Все поглядывали на него как-то странно, его папа дон Рауль опускал глаза, его мама вздыхала и покачивала головой, один брат смеялся без стеснения, другой крутил указательным пальцем у виска, мол, Ниньо Луисито совсем спятил, чего это он мелет, если никогда не бывал в Орисабе, если ничего подобного не видывал, если семья еще сорок лет назад переехала в Мехико? А Роса Мария его даже не слушала, ела да ела, ее черные-пречерные глазки были каменными, без воспоминаний. Как страдал Ниньо Луисито, выклянчивая все это, книги или воспоминания, нет, я не забываю, я нашел почтовые открытки; у нас есть сундук, полный старых фотографий, его используют как комод, но я знаю, что в нем лежит.
Донья Мануэла знала об этом, потому что Ниньо Луисито многое успел рассказать до того, как ей запретили возить его на прогулки. Оставаясь одна в своей комнате, лежа на койке, она пыталась молча беседовать с мальчиком, вспоминая о том же, о чем вспоминал он.
— Представляешь, Мануэлита, каким был когда-то этот наш дом.
Таково было второе воспоминание Ниньо Луисито, словно бы прошлое их многолюдного дома, приютившего двенадцать семей, дополняло его представление о том доме, в Орисабе, принадлежавшем одной семье, его семье, когда их имя еще что-то значило.
— Представляешь, ведь это были дворцы.
Старуха напрягала память, чтобы вспомнить, о чем ей рассказывал мальчик, и затем представить себе — подобно ему и вместе с ним — господский дворец, вестибюль без продавца лотерейных билетов, фасад из шлифованного камня без прилепившихся лавок дешевой одежды, магазина подвенечных нарядов, фотографии, торговли мелочными товарами, без афиш, портивших старинный благородный облик здания. Дворец — чистый, суровый, горделивый, без веревок и корыт в патио, где в центре шумел фонтан; широкая каменная лестница идет наверх, первый этаж отведен для прислуги, экипажи, лошади, стойла с зерном, и запах сена, и суета.
А что было на втором этаже? О чем вспоминал Ниньо? Да, залы, где пахло воском и лаком, клавесины, говорила она, балы и ужины, спальни, где пол выложен прохладными изразцами, где кровати с москитными сетками, шкафы с зеркалами, свечи. Так издалека и беззвучно говорила донья Мануэла Ниньо Луисито после того, как им запретили видеться. Так она общалась с ним, жила его воспоминаниями и забывала о своем прошлом, о доме, где работала целую жизнь, двадцать пять лет, пока не состарилась, о доме генерала Вергары в Колонии Рома, пока хозяева не переехали на Педрегаль. У нее не было времени сдружиться с маленьким Плутарко, новая сеньора, Эванхелина, умерла года через три-четыре после свадьбы, а старая хозяйка, донья Клотильда, умерла много раньше, Мануэле было только пятьдесят лет, когда ее уволили, с ней у генерала связано слишком много воспоминаний, потому он ее и уволил. Он добрый. Платит за ее жилье в доходном доме на Лa- Монеде.
— Иди и доживай с миром, Мануэла, — сказал ей генерал, — когда я тебя вижу, мне вспоминается моя Клотильда, прощай.
Донья Мануэлита прикусывала свой желтый мозолистый палец, когда вспоминала эти слова своего хозяина, эти воспоминания врывались в их общие — ее и Ниньо Луисито — и были совсем не к месту, донья Клотильда давно умерла, святая была женщина, в пору религиозных гонений и в бытность генерала влиятельным человеком при Кальесе донья Клотильда приглашала священника совершать богослужение в подвале своего дома, и каждый день они исповедовались и причащались: хозяйка, служанка Мануэлита и дочь служанки Лупе Лупита. Священник приходил в крестьянской одежде и с чемоданчиком, как у доктора, где прятал свое церковное платье, вино и облатки, отец Тельес, молоденький священник, святой, которого святая донья Клотильда спасла от смерти, приютив у себя, когда все его собратья были поставлены к стенке и расстреляны спозаранку, с раскинутыми руками, как на кресте, — она сама видела снимки в газете «Эль Универсаль».
Читать дальше