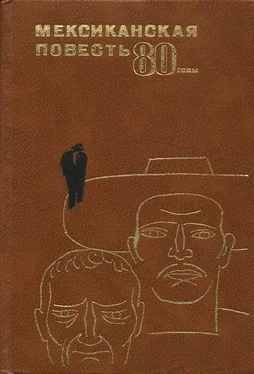Что делать, как спасти Билли? Сказать откровенно, что она сошла с ума, что никакой ее канадский друг не может жить в наши дни в Тибете, что все ее россказни — плод больного воображения? Невозможно; и он продолжал наливать виски, поддакивая и не мешая ее бреду.
Насколько вначале он старался избежать доверительных излияний, настолько теперь ему интересно было слушать ее. Лицо Билли становилось все шире, щеки — краснее, взгляд — неподвижнее. Она то и дело сплетала пальцы на затылке, откидывала голову назад и в неистовом ритме дергала ею. Потом погрузила пальцы в свою гриву, растрепала ее, взметнула вверх и отпустила; волосы тяжело упали на ее лицо, будто стайка воронят села, а она глухим, протяжным голосом рассказывала о своей жизни в Риме и, словно его там в то время не было, все искажала, перевирала, выдумывала. Хотела убедить его — его! — что, когда она встретилась с Раулем, она была широко известной в Европе писательницей. Она отказалась от литературы, только когда узнала, что беременна. Жизнь предъявляла свои требования! Описала, на какие только уловки не пускались поклонники ее творчества, чтобы повидать ее. Ее очерк о сестрах Бронте, ему неизвестный, был прочитан и одобрен самыми взыскательными эстетами. Ее венецианским рассказом зачитывались самые избранные круги Европы. Во времена наивысшей славы поклонники осаждали ее, предлагая литературные премии, но она не дала себя подкупить. Никогда ее перо не будет служить кому бы то ни было. Она открыла манеру повествования, которую равные ей признали началом новой литературы. Она сделала все и все покинула во имя идеала. Настанет день, Рауль поймет ее духовное благородство и вернется к ней. Она сумеет принять и защитить его, она изгонит все неблагородное, что проникло в его душу. Тут она сделала долгую паузу и мелкими глотками осушила еще один стакан виски. Ему совсем не хотелось говорить. Она поднялась, но не так стремительно, как в первый раз, и снова начала злословить об этой яме, в которую попала, рассказывать, как выгнала из дома Рауля, узнав о его отношениях со старухой служанкой, как захлопнула дверь и стояла, прижавшись к ней спиной. Заявила, что сделает то же самое, коща он вернется, что если она и бросила якорь в этих задворках мира, то лишь затем, чтобы преподать ему заслуженный урок. Забыв напрочь все свои недавние заверения, она объявила, что, едва лишь воздаст ему кару, тотчас же уедет из Халапы навсегда. Быть может, в Малагу, где протекло ее детство, ще она ходила в школу, а ее старые родители, позабыв о ней, сотнями поглощали полицейские романы, целыми днями сидя на террасе перед морем и нисколько не заботясь о дочери, которая играла с испанскими ребятишками, стоявшими неизмеримо ниже ее.
Но вот пришел опасный и неизбежный час горьких рыданий. Он встал, взглянул на часы, сказал — и это была правда, — что даже не представлял себе, как уже поздно. Распрощался по возможности естественно, к изумлению своей приятельницы, несомненно убежденной, что действо еще не достигло драматической вершины, и поспешил уйти.
Больше всего в жизни его пугало безумие. Малейшее соприкосновение с ним всегда оживляло страх отроческих лет: вдруг он ляжет спать в здравом уме, а проснется умалишенным. Он боялся встречаться с Билли, предвидел невыносимо однообразные сцены, бесконечные обвинения, готовность к ссорам, откровенное посягательство на его время. Особенно тревожила его похотливость, которая порой заволакивала взгляд Билли. Без всякого сомнения, думал он, погружаясь в туман, спустившийся этим поздним вечером на Халапу, ходить к ней больше не стоит.
Своего решения он не выполнил. Через два или три дня он все же позвонил ей, приглашая поужинать. В течение последующих трех лет он был свидетелем чудовищных сцен. Но сейчас не время, спохватился он, рассказывать все это. Можно подумать, будто он так и не вырвался из своего угла, позабыл, что он в Риме и надо пользоваться всем, чего он столько лет был лишен.
Они встали из-за стола в довольно угнетенном настроении. Каждому, по разным причинам, неприятно было узнать столько подробностей. Они вышли из траттории и медленно, в полном молчании направились к дому.
— Ты хорошо сделал, что бросил писать этот роман, — сказал наконец Джанни. — Может быть, сам того не понимая, ты повиновался чувству такта. Все, что я узнаю о Мексике, убеждает меня, что там, если захотят, могут стереть в порошок самую цельную натуру. И с какой жестокостью! То, что сделали с Билли, не укладывается ни в какие рамки!
Читать дальше