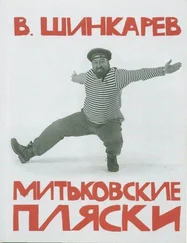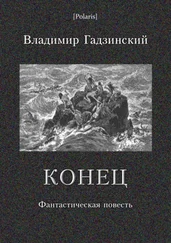Характер у моего Дмитрия Шагина хороший. Доволен собой, обладает хорошим чувством юмора, хорошим жизненным тонусом (то есть часто бывает беспричинно весел), общителен. Тонко чувствует живопись, кино, да и вообще «врубной» — слушает, что ему говорят, и понимает; подбадривает говорящего криками, кряхтеньем, с треском хохочет. Со стороны заметно, что он переигрывает, но собеседнику приятно.
Я еще никогда не упоминал прямо некоторую Митину приблатненность — да и какой же среднестатистический срез без приблатненности, червя русской культуры. Подточил этот червь и книгу «Митьки» (чего стоит любимый Митин «дурилка картонная», то есть по-русски — имитатор полового члена).
Митина приблатненность не злобная, а весело-жульническая; с такими, как впоследствии оказалось, опаснее всего, такие постоянно выказывают «дружбу сердечную», потому как им в лицо упрек скажешь?
Помню, в Сербии ходила от столика к столику и наяривала на скрипках пара цыган — здорово играли, слеза пробирала, но до чего порочные лица! Длинные, чувственные губы, воровато бегающий и вдруг пронзающий взгляд. Конечно, дружба сердечная. Просто ветер опасности дул от цыган. Я поделился своим наблюдением с окружающими — все со мной согласились, кроме Мити: «Очень хорошие люди, и лица у них очень хорошие и добрые. Настоящие братки». Добрый Джон Сильвер вступился за своих ребят.
Многие люди не сразу и распознают эту приблатненность, ведь Митя совсем не агрессивен, даже боязлив (он никогда не мог один переночевать в доме: страшно! Сколько раз он высвистывал меня, когда его семья летом уезжала на родину жены, Украину. Это были единственные случаи, когда он и бутылку проставить мог); многие эту приблатненность только приветствуют. Но многих она сразу и бесповоротно отвращает от Мити, чего он искренне не понимает, хоть и врубной.
Есть много вещей, по поводу которых нам с Митей никогда не договориться, лучше и не пробовать. Возьмем название нашего города, Санкт-Петербурга. Часть горожан приспособилась так называть, хотя в нынешнюю эпоху это имя звучит неуклюже и не по чину. Часть жителей действительно, не чувствуя никакой неуклюжести, живет в Санкт-Петербурге — таков их менталитет и образ жизни. Некоторая упертая часть по-прежнему называет город Ленинградом. А некоторые говорят по-простому, без понтов: Питер. Поскольку так любят говорить почти все теле- и радиожурналисты, уже и вполне тонкие в остальных отношениях люди начали называть город «Питером». Приблатненное, грязноватое слово («Питер бока повытер»), уместное, однако, в некоторых контекстах — питерская братва, питерские футболисты. Ничего не хочу сказать против нашей славной команды «Зенит», но ведь как-то со скрипом звучит: санкт-петербургские футболисты. Житель Санкт-Петербурга скорее всего и в этом контексте слово «Питер» не будет употреблять, скажет: футболисты «Зенита».
Солженицын в 90-е годы, чувствуя неловкость ситуации, вообще предложил переименовать город в Невгород для полного ужаса.
Надо ли упоминать, что для Мити полностью органично говорить: Питер. Он любуется этим словом, скручивает его, украшает им свои картины, музыкальные альбомы. Я ничего и не говорил Мите по этому поводу — зачем? Его ответ я знаю: «Питер — очень хорошее и доброе название, так говорят добрые и хорошие люди».
Воистину, «в суть всякой вещи вникнешь, коли правдиво наречешь ее». Ведь как называть теперь митьков? Для Мити это только «питерские митьки», и всегда таковыми были. «Петербургские митьки»— это нечто для интеллектуалов, здесь Мите ловить нечего, да и я соглашусь: «петербургские митьки» — ну не то это; вот «фундаменталисты» — да, они «петербургские».
Само наличие этого лингвистического затруднения указывает на конец митьков, потому что единственное вполне адекватное определение — «ленинградские митьки».
Второй вектор — это продолжение моей главной темы. Как и в предыдущей книге, «Максиме и Федоре»: игра с простотой. Игра с фразой Лао-цзы: «Великое совершенство похоже на несовершенство».
Все заумное и сложное можно, сильно постаравшись, редуцировать до простого, ведь упростить без потери смысла и качества — это достижение.
Вот гениальный рисовальщик Домье в поздних картинах упрощает картину до нескольких линий и пятен — и светотень, и пространство, и динамика сильно выигрывают. Не мудрено, что за ним ломанулась толпа вовсе не умеющих рисовать художников, имеющих в виду, что их линии и пятна просты, а стало быть, выразительны.
Читать дальше