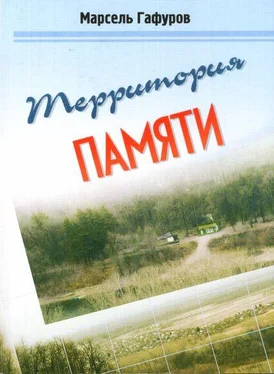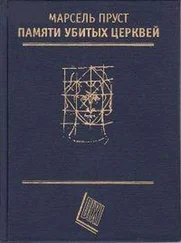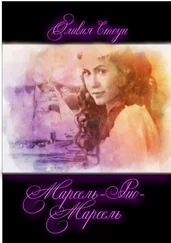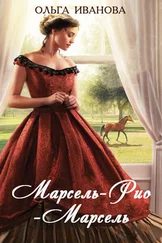Садоводы, люди теперь большей частью пожилые, стабунившись на берегу в ожидании катера, философствуют о том о сем, критикуют политику властей. Лет десять все дружно ругали Горбачева и Ельцина. Иногда разговор касался печальной участи деревни Дудкино. Слышу как сейчас надтреснутый голос дедка с орденом Отечественной войны на куртке:
— Откуда, думаете, взялось ее название? Жил, говорят, стрелец по прозвищу Дудка, деловой, видать, был мужик: выписал у царя Алексея Михайловича лицензию и держал тут перевоз. Тут как раз пролегала главная в ту пору дорога в Сибирь…
— Не у царя, а при царе Алексее, — поправил рассказчика старик, присевший на свою ношу — обернутые газетой обрезки досок. — Стал бы тебе царь выписывать лицензию! И слова-то такого в те времена не знали.
— Ладно, не у царя, так у воеводы уфимского бумагу выправил, не в этом суть. Два ли, говорю, три ли века простояла деревня имени Дудки, и нате вам — разорили…
— Помните, когда мы начинали, в деревне и магазин какой-никакой был, и школа, — вставила слово женщина, которую спутники называли Андреевной.
— Школу, я слышал, продали на слом за два миллиона рублей.
— Два миллиона?! Кто ж ее смог купить?
— Да хоть бы и ты купила. Продали до того еще, как в деньгах срезали нули, когда все мы ходили в миллионерах.
— А-а. Выходит, недорого взяли. Одних досок из обшивки школы хватило бы на пяток таких, как у меня, домиков…
Взревел, отчаливая от противоположного берега, катер. Разговор оборвался.
Дудкино считалось частью городского района и в казенных бумагах именовалось поселком, а по укладу жизни это была деревня как деревня. С упразднением совхоза половина ее жителей разъехалась кто куда, остальные ждали предоставления квартир в городе и жили тем, что Бог пошлет: сажали картошку, держали кое-какой скот. Я близко познакомился с ними благодаря своим соткам.
Меня, как многих горожан, обуяло стремление вырастить что-нибудь плодоносящее, перехитрить природу с ее зимними морозобоями, весенними заморозками и потопами. Уфимка трижды, не считая ежегодных терпимых наводнений, затопила наши домики до крыш. Пережив стихийное бедствие, мы все начинали почти заново. Коренные дудкинцы, глядя на нас, посмеивались: мол, зря стараетесь, не дождетесь тут яблок, климат для яблонь у нас неподходящий, слушаете, чай, сводки погоды — на нашей низине всегда холодней, чем наверху, в городе. Яблок мы все-таки дождались, климат на Земле, говорят, помягчел. Но тут подвело меня сердце. Можно сказать, раздался первый звонок, приглашая меня на тот свет.
По моим расчетам, должны прозвенеть, как в театре, еще два звонка. Мы с женой, решив держаться до третьего поближе к природе, подальше от городской суеты и стрессов, перебрались жить на свой садовый участок. До инфаркта я успел срубить из выловленных в реке осиновых бревен избенку, сложил кирпичную печку — удачная получилась печка. Под потолком горит электрическая лампочка, о событиях в мире сообщает транзисторный приемник — чем не жизнь! При редких вылазках в город за продовольствием мы свое исчезновение объясняли знакомым тем, что предпочитаем жить на загородной даче. Дача — это звучит!
Таким вот образом мы оказались свидетелями предсмертных лет деревни Дудкино. Она умирала на наших глазах. К прошлому году в деревне осталось шесть или семь семей, прописанных в ней. Для городской администрации они были лишней головной болью, и потому последних дудкинцев известили, что изыскана наконец возможность переселить и их. Не в фешенебельный район, конечно, а на другую окраину города, но и там квартиры — с удобствами, не надо по нужде выскакивать на двор.
Будущим новоселам было сказано также, что ордера на квартиры они получат лишь после того, как разрушат свои деревенские избы. Приедет комиссия, проверит, все ли как надо сделали. Чтобы, значит, никто в эти избы не вселился и администрация не нажила опять ту же головную боль. И дудкинцы — кто с шутками-прибаутками, кто со слезами на глазах — принялись рушить свои родовые гнезда. Одна только баба Клава уперлась:
— Никуда я не поеду, помру тут!
Сын ее, Андрей, и так и эдак к ней подступался, ему-то, молодому, хотелось обрести цивилизованное место жительства, а мать не соглашается, и все тут.
Мы покупали у бабы Клавы молоко, то хозяйка моя к ней ходила, то я. Я не знаю ее фамилии, в деревне принято было называть друг друга по имени, иных по отчеству, а ее — баба Клава да баба Клава, ну и мы — как все. Ходить к ней было дальше, чем к другим деревенским, кто держал корову, но понравилась нам старушка своей приветливостью, словоохотливостью и опрятностью. Приду, бывало, к ней ранним утром — она на миг вся засветится, тут же засуетится:
Читать дальше