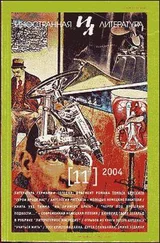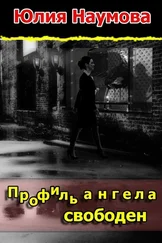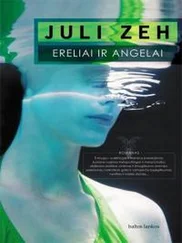Первое подозрение относительно того, что именно нашел Шерша в Джесси, возникло у меня в одну из первых ночей после знакомства. Через пару часов после отбоя на всей территории интерната она внезапно и без стука вошла к нам в комнату, хотя, понятно, могла застать нас не в одиночестве или, напротив, в процессе самоудовлетворения, в процессе, так сказать, игры на телесной гитаре под приглушенную музыку «The Doors». Должно быть, такое она просто проигнорировала бы. Так или иначе, я мирно лежал в постели, почитывая книжку и покуривая травку. Шерша сидел за столом, рисовал акварельными красками на листе картона какую-то ерунду, следя главным образом за тем, чтобы вымазать в краске одежду и руки, и тогда назавтра каждому будет видно, что накануне он занимался живописью. Джесси остановилась у порога, не проходя вглубь комнаты.
Я купец, у меня товар, я хочу получить навар, сказала она.
Мы оба на нее уставились.
Повторяю для дураков, сказала Джесси, ваша комната тут не единственная. Нужно вам или нет?
Что, спросил я.
Почем, одновременно со мной спросил Шерша.
Полтораста марок, сказала Джесси.
И только тут я допер, что речь не о гашише.
Нет, спасибо, сказал я.
Сижу без денег, сказал Шерша.
Джесси, пожав плечами, исчезла. Было совершенно ясно, что после десяти вечера она просто не могла проникнуть в «Европу» через главный вход — сразу после отбоя его запирали. Заперт он был наверняка и сейчас. Позднее я сообразил, что она взбирается на балюстраду, поднимает решетку и проникает в корпус через вентиляционную шахту. Никому из администрации не могло бы прийти в голову, что кто-нибудь из нас в такую щель сумеет пролезть. Вентиляционные шахты имелись во всех корпусах интерната. Джесси оказалась единственной, кто получил полную свободу передвижений. И она пользовалась этим — раз в неделю и исключительно для того, чтобы добросовестно обойти палаты, продавая кокс каждому, кто в состоянии себе такое позволить.
Собственный голос начинает меня убаюкивать. Закрываю глаза, придвигаюсь поближе к диктофону, говорю тихо, чуть ли не шепчу.
Позволить себе такое могли многие, только не я и не Шерша. У моей матери не было ничего, кроме сына и «даймлера» третьего класса, на уход за которым и тратились отцовские алименты, вообще-то предназначенные для оплаты моего пребывания в интернате. Правда, эта машина в некотором смысле повышала мой социальный статус. Навещая меня, мать подкатывала впритык к зданию, и я на глазах у всех надменно усаживался в серебряный «даймлер». Это было важно. Соученикам оставалось только ломать голову над тем, кто я и как ко мне следует относиться.
Отец Шерши был иранским послом в Эфиопии и не поддерживал никаких контактов с сыном. Стыдился его, считал выродком и денег не присылал. Но Шерша ни в чем не испытывал недостатка. Он вечно ходил в черных засаленных джинсах, достаточно тесных для того, чтобы демонстрировать его мужское достоинство, да и крепкие ляжки тоже, в кроссовках, которые отправлял на помойку лишь раз в году, и в подаренных ему кем-нибудь (вместо того чтобы выкинуть) футболке или пуловере. Все книги и кассеты в его личной коллекции имели одинаковое происхождение — он брал их на время и не возвращал. И никому не мешало то, что Шерша вечно сидит без копейки. Отец передал ему по наследству нечто куда более важное: густые черные кудри и восточные черты лица. И то и другое представляло собой идеальную рамку для материнской наследственной части, а мать у него была француженкой — мягкой, сочной и ослепительной. С таким наследством все ему было нипочем.
Когда я вновь открываю глаза, Клара сидит напротив, сидит с прямой спиною, распущенные волосы наплывают на лицо, как туча на солнце. Я вскрикиваю, принимая ее в первый миг за привидение, пытаюсь вскочить на ноги и больно стукаюсь об острый край стеклянного столика.
Спокойнее, говорит Клара, спокойнее.
Голос ее звучит так, словно она уговаривает большое животное, допустим быка, упирающегося у входа в фургон скотобойни. Это меня успокаивает. Ослепительная улыбка озаряет ее лицо, судя по всему, она блаженствует. Не знаю, сколько времени она просидела, наблюдая за мной в нечаянном сне, да и час, наверное, уже поздний. Гладкой черной пленкой уже затянуло снаружи оконные стекла.
Просто продолжай, прошу тебя, говорит она.
Я включаю «воспроизведение», чтобы понять, где остановился. Меня чуть ли не тошнит от звука собственного голоса. В моей манере говорить есть нечто отвратительно телесное. Буквально слышишь мягкий плеск, с каким язык отлипает от нёба; слышишь, как трутся друг о дружку задние зубы; слышишь, как раскрываются пересохшие губы. Как будто я не говорю, а пытаюсь съесть собственный рассказ. Протянув руку, Клара переключает диктофон на запись.
Читать дальше
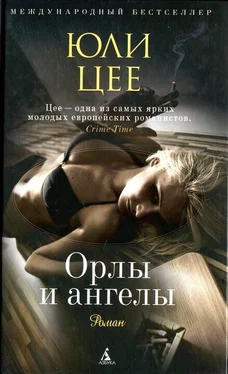
![Юлия Добровольская - Голос ангела [cборник]](/books/78768/yuliya-dobrovolskaya-golos-angela-cbornik-thumb.webp)