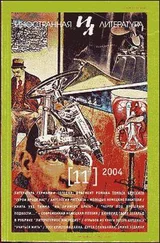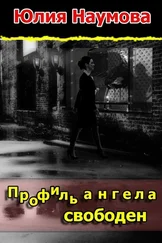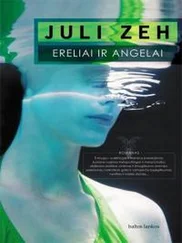Надолго это не затянется, отвечаю, сейчас уже каждой собаке известно, где мы. И они за нами придут.
О чем ты, шепчет она, какие еще «они»?
Те, что нас разыскивают, говорю. Росс и другие.
Никто нас не разыскивает, говорит она. Мы никому не нужны. Мы как прошлогодние газеты.
Но и они рано или поздно идут на переработку, напоминаю я ей.
Это место забыто людьми, говорит она, забыто людьми и Богом, это край света. Мореплаватели прошлых веков так и не сумели найти его, а вот мы нашли его, посреди города, этот окаянный край света.
Когда она лежит вот так — жалкая и бессильная — и выражается столь возвышенно, то кажется мне прекрасной, как никогда. Ее рубаха вся в пятнах и в пыли, грязь пристала и к коже, в особенности на сгибах конечностей, где скапливается пот. Лишь лицо у нее белое и чистое (я регулярно протираю его), кожа гладкая и как бы истончившаяся, словно готовая лопнуть, пойдя мелкими кровавыми трещинами, при первой же перемене выражения. Но выражение ее лица не меняется уже давно.
Раз уж ты такая красивая, тоже шепотом начинаю я, и поскольку ты не в силах постоять за себя, я расскажу тебе историю до конца. Всю правду, и ничего, кроме правды.
Может, мне надо было сбежать, говорит она, пока еще оставались силы.
Ты хочешь уехать, спрашиваю.
Мне и до вокзала-то не дотянуть.
Учту, говорю.
Хотя, вообще-то, она уже давно не говорила так длинно и связно; кажется, ей и в целом получше. Раскуриваю и вставляю ей между пальцев вторую сигарету. Мне приходится надавить ей сверху на кисть, чтобы она не выронила сигарету.
Макс, говорит она, это абсурд, но мне страшно.
Смотрит в мою сторону и после нескольких попыток ей удается сфокусировать на мне взгляд. Смотрим друг на дружку.
Мне страшно, тихо повторяет она.
Отлично, говорю, наконец-то ты становишься нормальным человеком.
Ее кивок столь замедлен, что его трудно отследить невооруженным глазом.
Дверь «домика» звенит на все лады, как весенний лес, оглашаемый птичьим пением. Три недели никто не проворачивал ее в петлях, не открывал и не закрывал, а сейчас я для забавы проделываю эту процедуру несколько раз подряд. Вижу зеленую траву, слышу ручейки, становящиеся серебряными под золотыми лучами солнца, и неумолчных птиц. Затем закрываю дверь снаружи, запираю на засов, окно тоже.
Открываю багажник «асконы», достаю картонку с деньгами. Господи, как давно я не вспоминал о своей лейпцигской квартире. Выбираю доллары — они занимают меньше всего места, набиваю ими карманы брюк — полные карманы, но все же так, чтобы не превратиться в ходячую карикатуру.
27
ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ САМООБОРОНЫ
Жак Ширак останавливается на каждом углу, поэтому на площади перед парламентом я оказываюсь только в полпервого. Площадь похожа на ярмарочную, только когда ярмарка уже позади, — повсюду валяются грязные и скомканные листовки; с земли, с ветровых стекол, с цветочных клумб, изо всех углов и щелей глазеет фотография Йорга Хайдера с гитлеровскими усиками, черно-белая и цветная. Какой-то миг мне хочется швырнуть наземь мой паспорт фотографией вверх, но злости мне явно не хватает.
Много, слишком много полиции. Делаю крюк через Фольксгартен, обхожу стороной Дворец правосудия и выхожу на площадь Шмерлинга с противоположной стороны. Руфус как-то сказал, что австрийская политика имеет не большее значение, чем возня ребятишек на пляже, швыряющих друг дружке в глаза горсти песка. Сейчас я начинаю понимать, что он имел в виду. Даже если Хайдер собственной персоной войдет в состав правительства, максимум того, на что он окажется способен, будет выглядеть раздачей рождественских подарков бедноте по сравнению с тем, что постоянно и непрерывно разворачивается за кулисами мировой политики.
Встаю в тени Дворца правосудия таким образом, чтобы, поглядывая на Бартенштейнгассе, видеть вход в контору. Каждый день между двенадцатью и часом младшие партнеры покидают здание, поодиночке и группами, мужчины распускают галстуки, женщины, набросив легкие куртки, распускают по плечам длинные белокурые волосы. Все угощают друг дружку сигаретами. Так заведено, и ничего здесь измениться не может. Тот, кто не использует эти полтора часа для себя, слывет не юристом, а крепостным. Юстиция — это не только профессия, но и стиль жизни.
От Фольксгартена четверть часа пешком до Зингерштрассе; как правило, мы отправлялись туда вшестером или всемером в рубахах с расстегнутым воротом, перекинув галстук через правое плечо. Мы протискивались к Ван Вейнстену на площади Францисканцев — в самую изысканную закусочную на всем земном шаре. Неизменно то одному, то двоим удавалось занять место на обтянутой красной кожей скамье, и тогда можно было побаловать себя карпаччо или как минимум капрезе . Но мне такая удача выпадала не часто. А все остальные в тесноте и давке, в которых отчаянно жестикулирующий сосед запросто мог вышибить у тебя из рук трамеццини , не столько утоляли голод, сколько курили. Если же нам хотелось покоя и полноценного обеда, мы шли в другую сторону — в «Ск а лу» на Нойбаугассе, усаживались в кресла работы Рене Хербста и говорили о том, как хорошо уклониться от визита к Ван Вейнстену, как хорошо не толкаться среди рекламщиков и прочих идиотов того же сорта. Хозяин «Скалы» знал каждого из нас по имени и подавал по желанию как изыски итальянской кухни, так и туземный шницель.
Читать дальше
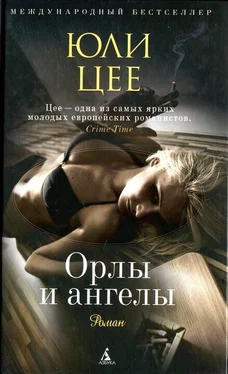
![Юлия Добровольская - Голос ангела [cборник]](/books/78768/yuliya-dobrovolskaya-golos-angela-cbornik-thumb.webp)