Так что, насколько дело касалось чувства вины и угрызений совести, мне становилось все легче и легче ходить в гости к Каррингтонам, и, как ни странно, Лоуфорд начал мне все больше и больше нравиться. Ведь он был не виноват, что он такой, какой есть, — или не такой, каким быть не может. Я обнаружил даже, что и окружающий его мир стал нравиться мне больше. Теперь я мог наслаждаться им иначе, более полно. Каждый разговор, каждая сплетня, каждая история из жизни или воспоминание, каждое замечание по поводу искусства, политики или человеческой природы я рассматривал теперь через призму иронии и словно издалека.
И к людям я теперь стал относиться иначе. Когда этот мир утратил в моих глазах всякую значительность, я впервые осознал, как, в сущности, отважны его обитатели, которые бьются и страдают, не догадываясь о хрупкости собственных иллюзий. И иногда я испытывал даже мимолетные приливы нежности к ним.
Но иногда, когда я сидел в гостях, все вдруг становилось пустым и бессмысленным, и не оставалось ничего, кроме Розеллы, полулежащей в кресле в позе утомления или видимой слабости, так непохожих на обычную для нее живость, и возникало ощущение, будто она жаждет какого-то избавления.
«От чего?» — спрашивал я себя.
И где-то в глубине моей души, словно медленные удары колокола, звучал ответ: «От самой себя».
Потому что я, к своему большому удивлению, обнаружил, что могу дать только такой ответ, и, зная этот ответ, постоянно чувствовал потребность прижать ее голову к груди и в чем-то заверить, в чем-то убедить.
Но в чем?
Этого я не знал. Я знал одно — это будет совсем не то, в чем она убеждалась в моей полутемной комнате, отгороженной занавесками от дневного света.
Всякий раз, встречаясь с ней в гостях и испытывая такое побуждение, я с неизбежностью вспоминал тот день, когда в коридоре дагтонской школы она пригласила меня на выпускной вечер, — когда в конечном счете все дело решила не ее красота, не ее обаяние или аромат духов, а то, как рука, нерешительно протянутая ко мне, в растерянности повисла в воздухе, беспомощно повернувшись ладонью вверх, и я увидел голубые прожилки вен на внутренней стороне запястья.
И однажды, видя, как эта грустная усталость охватила ее в самый разгар всеобщего веселья, я почувствовал, что сердце мое готово разорваться, и чуть не сказал вслух: «Я люблю ее. Я люблю ее». К своему собственному удивлению. Казалось, я стою на пороге некоего нового измерения жизни.
Или я видел, как она ласково склоняется к какой-нибудь пожилой даме, слушая ее бесконечные речи, или танцует с какой-нибудь старой развалиной, чье лицо от этого сияет притворным молодым задором, или с серьезным, понимающим видом кивает в ответ на откровения какого-нибудь зеленого юнца-студента со следами прыщей на лице. «Зачем ей все эти идиоты?» — с горечью вопрошал я себя, зная — или говоря себе, что знаю, — что эта симпатия, эта доброта — отражение ее загадочной жажды избавления.
Но не стоит изображать дело так, будто что-то в этой жизни просто, особенно когда речь идет о человеческой душе. И однажды, когда я, сидя в группе гостей у камина в том конце конюшни, где находилась мастерская, увидел, как она скинула сандалии и поставила ноги на мраморный выступ, и все глаза устремились на ее розовые ступни, освещенные пламенем, меня охватила ярость при мысли о том, какие интимные и изящно-акробатические положения принимали эти ступни всего несколько часов назад, словно превратившись в лишнюю пару рук, которые могли тянуться ко мне, гладить, щекотать и ласкать. Я подумал, что должно пройти еще тридцать шесть часов, а может быть, и больше, прежде чем я снова увижусь с ней. Эта мысль причинила мне такую боль, что я встал, вышел из комнаты, полной людей, погрязших в бессмысленном самодовольстве, и долго стоял в темноте на улице.
Никто никогда не говорил мне, что со мной может твориться такое.
Стоит ли говорить, что на протяжении всех этих недель мои профессиональные дела отступали все дальше на задний план, превращаясь в некое машинальное занятие? Я читал лекции, отвечал на вопросы, с улыбкой здоровался со знакомыми на университетском дворе, но все это казалось мне лишенным смысла. Я был даже готов посочувствовать этим людям, отважно переносившим свою нереальность, но не более того. Впрочем, я должен был признать, что еженедельные визиты к миссис Джонс-Толбот для чтения Данте с ней и миссис Бичем были исключением. Обе немолодые дамы так старательно занимались и получали такое удовольствие от четкого ритма фразы или яркого образа, что я невольно пытался отвечать тем же и принимать мир таким, каким видели его они. В таких случаях у меня иногда появлялось даже какое-то чувство утраты, а иногда я ощущал укол зависти, на первых порах неопределенной и необъяснимой; но потом я понял: дело в том, что эти женщины все еще обладали способностью простодушно и без всяких усилий радоваться жизни, — способностью, которую я утратил.
Читать дальше
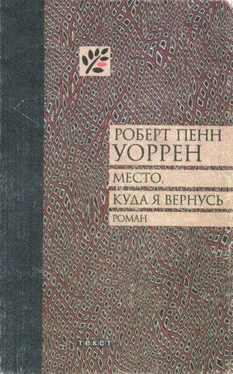





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
