Собственно говоря, ничего не стояло у меня перед глазами, и ни одной мысли не было у меня в голове. Понемногу я припомнил, что видел во сне перед тем, как проснулся: это был какой-то путаный сон, в котором не фигурировали ни Розелла, ни Мария. Там была ночь и могила посреди прерии, на нее падал снег, а вокруг стояло множество людей. Я знал, что все это люди, с которыми я был знаком в детстве или позже, хотя даже под страхом смерти не мог бы припомнить ни одного имени, и там были даже люди, которых я мельком встречал на улице или на автовокзале ночью в незнакомом городе, может быть, даже в Италии во время войны, и все они стояли и молча плакали, и снег падал на их обнаженные головы. А я не мог плакать. Они с состраданием спрашивали меня, почему я не плачу. Меня в этом сне мучило то, что я не могу плакать, и я попытался объяснить им, что хочу плакать, но не могу. Губы у меня шевелились, но как-то онемело, словно после укола новокаина у зубного врача, и я не мог издать ни звука, как ни старался. И от этих бесплодных стараний заговорить я проснулся.
А когда я стоял босиком в темноте у окна, глядя, как здесь, в Теннесси, идет настоящий снег, и припоминая тот сон, я вдруг почувствовал, что у меня на глаза навернулись слезы. Картины из моего сна слились с воспоминанием о лице Марии, сидевшей за столом Кадвортов, о том, как сияло оно при свете свечей от щедрой радости, когда она обнимала Салли. Но в то самое мгновение, когда у меня дрогнуло сердце, я с жестокой ясностью осознал неизбежность всего, что происходит со мной, и понял: нет, я не хотел бы, чтобы все было иначе.
Я не мог желать, чтобы Агнес Андресен осталась жива. Я не мог желать, чтобы Мария Мак-Иннис не уехала. Я не мог желать, чтобы Розелла Хардкасл не пришла ко мне в постель. Я мог бы только пожелать, чтобы были иными — чтобы не существовали — смутные надежды и грустно-иронические мысли, которые составляли содержание моего неизбежного настоящего. Я понял — и сердце у меня вдруг сжалось, — что хотел бы отторгнуть все это, отрицать это, отречься от этого.
Когда Розелла пришла ко мне в следующий раз, она, лежа рядом со мной в послелюбовном молчании, вдруг сказала:
— А Мария — что она будет делать?
Я сел и посмотрел на нее.
— Ты хочешь, чтобы она вернулась?
— Все это так ужасно, — сказала она.
— Да, ужасно, но вот сейчас, в эту минуту, ты хочешь, чтобы она снова была здесь, в Нашвилле?
Она закрыла лицо руками. Я нагнулся к ней, взял ее за запястья и отвел руки от лица.
— Ты помнишь, что ты сказала?
— Что?
— Что мы такие, какие мы есть. Помнишь?
— Да.
— Так вот запомни: вот в эту минуту, в этой комнате, в этой кровати, голые, мы такие, какие мы есть.
Я произнес эти слова, насколько помню, с чувством холодной логики и какой-то иронической отстраненности, словно происходящее не имело ко мне никакого отношения, хотя на самом деле имело ко мне отношение самое непосредственное. Розелла отодвинулась от меня и долго лежала, прижав к лицу подушку, из-под которой слышались какие-то приглушенные звуки. Я подумал, что она плачет.
Но она не плакала. Она отвела подушку от лица, и оказалось, что она смеется каким-то сдавленным смехом, и сквозь этот смех она сказала, что в дураках осталась сама, потому что она такая, какая она есть.
— Не вижу ничего смешного, — сказал я.
— Ох, мне так стыдно! — воскликнула она. — Но это тоже часть всей этой истории.
— Что?
— Я давно хотела тебе рассказать — я хочу, чтобы ты знал все, правда, хочу, — но мне было так стыдно!
— А что?
— Ну хорошо, — сказала она, села на кровати, глядя теперь не на меня, а куда-то в пространство, и начала совершенно деловым тоном: — Когда я раскрыла газету и узнала, что ты приехал в Нашвилл, я испугалась. Я целую минуту была просто в панике. От того, что ты можешь про меня рассказать. Конечно, ничего особенно ужасного, но просто про Дагтон и про все прочее… может быть, про моего отца… может быть, про Честера Бертона…
— Поэтому ты взяла меня в союзники, — сказал я.
— Ну да, и вот ты со мной в постели, и я люблю тебя до того, что сердце разрывается, и в дураках осталась я сама.
И она снова засмеялась тем же сдавленным смехом.
Я дал ей отсмеяться, а потом сказал:
— Сначала ты сделала своей союзницей Марию. Ты поняла, как это может быть ценно. Правильно?
— Да, клянусь Богом. Я была так одинока, чувствовала себя такой потерянной. А потом… Потом я полюбила ее — ее нельзя не полюбить.
Она снова засмеялась.
Читать дальше
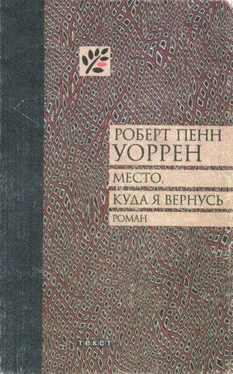





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
