Вскоре все решили, что я всякий раз, когда потребуется, могу привести с собой Марию. Или она меня. В общем-то я ничего против не имел. Она была красива какой-то спокойной красотой. Она была безусловно умна. Она была даже способна шутить — лукаво, но беззлобно. Мне еще предстояло узнать, что с ней приятно и помолчать. И она не требовала, чтобы я развлекал ее разговорами. Больше того, она как будто ничего от меня не требовала, да и от жизни тоже.
Не ожидая ничего от жизни, Мария отличалась редкой самоотверженностью, которая проявлялась в сочувственном интересе к превратностям судеб окружающих. Она всегда была готова оказать какую-нибудь мелкую, ненавязчивую услугу или выслушать чьи-нибудь жалобы на жизненные невзгоды. Она никогда не говорила о себе, и именно благодаря такому самоотречению она каким-то не совсем понятным мне образом занимала прочное место в этом тесном мирке. Всем она была нужна. Все ее любили. Все знали, что могут на нее положиться, хотя и не знали толком в чем. Даже сейчас, когда я вспоминаю то время и тех, кого знал тогда, у меня перед глазами встает группа людей, которые о чем-то беседуют и смеются, и чуть поодаль — Мария, прислушивающаяся к их беседе и шуткам, переводя взгляд с одного лица на другое, и глаза у нее темные и блестящие, словно у птицы, выглядывающей из тени, и такие же внимательные, как у птицы, а на лице выражение смирения и в то же время спокойной серьезности. Для этих людей Мария была, казалось, неким драгоценным талисманом, находящимся в их общем владении. Ее присутствие как будто придавало им вес, освящало их существование, помогало ощутить свою индивидуальность, подтверждало самоценность их мелких забот и переживаний.
Она была явно не такая, как все, кто ее окружал, но притом, как ни странно, принадлежала к их кругу как его неотъемлемая часть. Она обладала всеми достоинствами, каких можно ожидать от дочери богатого нашвиллского банкира из хорошей семьи: хорошо танцевала, хорошо ездила верхом, хорошо играла в теннис, хорошо одевалась, хорошо держалась в обществе. Но при этом, втайне от других, она была очень трудолюбива, много читала, время от времени по заданию университета выполняла кое-какие исследования в области психологии и философии (этих тем она в разговоре никогда не касалась), а несколько дней в неделю работала волонтером в одной из городских больниц. Она была, как выражались ее друзья, «серьезная девушка» — словно это какая-то загадочная болезнь, в подробности которой углубляться не принято.
А потом, в один прекрасный день, мое затуманенное сознание чуть прояснилось, и меня осенило — я понял, что в Марии самое загадочное и самое очевидное. При всей ее спокойной миловидности, уме, доброте и других достоинствах — не говоря уж о богатстве, которое она как единственная дочь Дэниела Хэмиша Мак-Инниса должна была унаследовать, — она была не замужем и, грубо говоря, засиделась в девках. Что ж, я-то жениться на ней не собирался. Да и она, очевидно не ожидая ничего от этого мира, не рассчитывала и на то, что я захочу на ней жениться, и сама к этому не слишком стремилась. Так что я мог спокойно, удовлетворенно, бесплотно парить в этом вакууме своего нехотения и ее нестремления.
А потом мое затуманенное сознание еще раз прояснилось, и меня снова осенило — я понял одну вещь, столь же загадочную и столь же очевидную. Я вспомнил, как в неуютных коридорах дагтонской школы Розелла Хардкасл, сопровождаемая эскортом ржущих мальчишек, всегда ходила в обнимку с кем-нибудь из девочек, склонив к ней голову и о чем-то с ней доверительно шепчась. И вот теперь, в Нашвилле, лучшей подругой Розы Каррингтон стала Мария. Она была всегда под рукой.
Шла осень. Я допоздна работал в своем одиноком домике на опушке леса. Я ходил на официальные обеды. Я ходил к Каррингтонам. Я побывал на футбольном матче в День благодарения — вместе с компанией, где, конечно, была и Мария, — за которым последовали ужин и кадриль в конюшне под музыку деревенских скрипачей, когда Кад Кадворт, в качестве главного специалиста по всем таким народным обычаям, объявлял фигуры. Я ездил верхом у Кадвортов на их самой смирной лошадке, в новых вельветовых брюках и старых армейских ботинках, — ездил более или менее приемлемо, хотя и неумело, — и сиживал с ними в их симпатичном старом кирпичном доме, где на видавшем виды чиппендейловском стуле могло валяться новое седло, а на стойке бара могла стоять банка с копытной мазью, и однажды, поздно вечером, Кад вышел и вернулся через пятнадцать минут с молодой кобылой, которую привел в гостиную, чтобы продемонстрировать гостям ее стати. Там я начал завидовать простоте и насыщенности их жизни, их явной привязанности друг к другу, которой они ничуть не стыдились, их энергии — Кад трудился по двенадцать часов в день, а Салли могла не хуже его вспахать поле на тракторе или принять новорожденного жеребенка — и их полной погруженности в мир, который они создали сами. Но тут же я, наверное не без некоторой горечи, спрашивал себя — а что такое этот их мир, не пародия ли на далекое прошлое?
Читать дальше
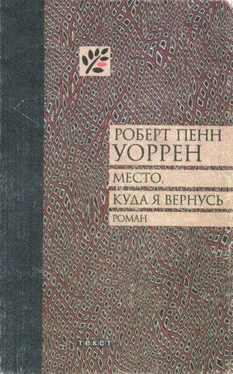





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
