Будильник зазвонил, как мне показалось, сразу же после того, как я его завел. Я предоставил ему звонить, пообещав себе, что встану ровно через минуту, и лежал, пытаясь вспомнить, о чем должна быть моя сегодняшняя лекция. Я представил себе, как вхожу в аудиторию и объявляю: «Милые детишки, мои маленькие овечки, я не могу сказать, о каком типе трагедии сегодня пойдет речь, потому что забыл, но тем не менее могу поделится с вами одной глубокой, хотя и мало приятной мыслью», и как я привожу слова Эдгара из замечательной сцены в степи во время бури, которые стали откровением для короля Лира: «Не давай скрипу туфелек и шелесту шелка соблазнять тебя, не бегай за юбками… не слушай наущений дьявола». А потом в слезах умоляю их, моих милых детишек и маленьких овечек, не верить тому, что я только что сказал, тому, что сказал Эдгар, поскольку это кощунство, поскольку если не давать соблазнять себя, то зачем тогда жить, поскольку…
Тут будильник зазвонил снова, только это был не будильник, а телефон, и мне пришлось, прервав уже не просто остроумную воображаемую речь, а самое настоящее сновидение, шлепать к нему босиком среди белого дня, потому что было уже безнадежно за девять часов. И еще не дойдя до телефона, я понял, что сегодня вторник, что Розеллы Хардкасл сегодня здесь не будет, что она будет далеко, высоко над миром, и пустота предстоящего дня привела меня в отчаяние.
Звонила Салли Кадворт. Она сказала, что Кад после обеда уезжает, а погода такая чудесная, и не приду ли я помочь с разминкой лошадей, а потом на тихий семейный ужин, и заодно посмотреть, как отвратительно и роскошно раздулся ее живот. Ведь мы не виделись тысячу лет, добавила она.
Да, не виделись.
И я знал почему, потому что месяц назад, когда я в последний раз был у них и мы с Кадом проезжали лошадей, Кад снова — о, вполне невинно — завел разговор о соседней ферме и сказал, как красиво расположен старый дом на холме над ручьем, и что ферма еще не продана, и что будь он проклят, если понимает почему, тем более что цену опять понизили. А позже, когда мы с ним у стойки бара дружно взялись за виски, он снова сказал:
— Теперь ее можно купить просто за бесценок. А содержать ее — не проблема, уж я точно знаю. Только не думай, что я тебя уговариваю.
И потом:
— А ей-богу, и в самом деле уговариваю. Потому что мы с Салли никого так не хотели бы иметь своим соседом.
И он повернул ко мне свое широкое, сильное, обветренное лицо и взглянул на меня серьезно и по-дружески, и капельки пота блестели на его крепком лысом черепе, как всегда, когда он выпивал, и он сказал:
— Я просто знаю, что все кончится хорошо, я это нутром чувствую, и ты тоже это знаешь, приятель.
И я услышал как будто издалека собственный голос, который спокойно и отчетливо произнес:
— Грош цена твоему нутру, ничего оно не понимает. — Я видел, как его голубые глаза удивленно округлились, а уголки рта опустились от огорчения. — И если ты имеешь в виду Марию Мак-Иннис, то прошу оставить эту тему в покое. Навсегда.
С этими словами я круто повернулся — все еще со стаканом в руке, однако, — и, испытывая веселое злорадство при мысли о том, что его чертово нутро даже не догадывается, кому заправляет шершавого Старина Кривонос, и как оно удивилось бы, если бы узнало, отправился в другую комнату, где, присоединившись к кучке гостей, преимущественно женского пола, окружившей свами, принялся разглядывать чахоточные прелести крошки Деббит, которая сидела на подушке у ног мудреца и жадно внимала каждому его слову.
Свами как раз читал вслух — на хинди, разумеется, — одно из своих стихотворений, а кончив читать, перевел его на английский, тоже в стихах. Когда возгласы восторга и восхищения утихли, он начал читать другое стихотворение, тоже в оригинале, и не успокоился, пока не дошел до конца. Тут его взгляд упал на меня.
— Ах, дорогой профессор, — сказал он, — вы можете объяснить нашим друзьям, как много всегда теряется при переводе, как исчезает живое дыхание языка, и эту последнюю вещь я вынужден, принеся свои извинения, пересказать несколько вольно, а уж как-нибудь потом постараюсь дать более адекватный перевод.
И он принялся излагать нечто напоминавшее странную мешанину из Рабиндраната Тагора, Лоуренса Хоупа, Элизабет Браунинг и Фелисии Хименс, не говоря уж о частых ссылках на некий учебник экзотических поз, имеющий хождение на его родине. Очень скоро я почувствовал, что сыт по горло, и, стараясь не шуметь, стал пробираться между сидевшими на подушках женщинами, извиняясь вполголоса, и клянусь, что, когда я случайно взглянул на свами и наши взгляды встретились, мне показалось, он мне подмигнул — а может быть, и в самом деле подмигнул — и улыбнулся многозначительной улыбкой с богатым ироническим подтекстом, выражавшей, кроме всего прочего, дружелюбие, доброжелательность с долей презрения и братское понимание, как будто он хотел дать мне понять, что, если я не буду соваться в его темные делишки, он не будет соваться в мои.
Читать дальше
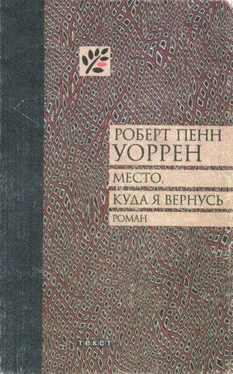





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
