Благодарность к этому советскому офицеру я сохраню до конца своих дней, до той поры, когда меня опустят в мою грюнхофскую могилу, ибо его выстрел обострил мое зрение и слух по отношению к той женщине, которую я некогда называл своей женой. Я внезапно сознаю, что для меня счастье заключается лишь в писательстве, но что из-под моего пера не выйдет ничего самостоятельного, пока я не перестану гоняться за ней. Я внезапно понимаю, что должен от нее отвыкнуть, я переживаю одно из тех непродолжительных мгновений, когда я по собственной воле и, однако же, в духе большой жизни совершаю нечто вполне самостоятельное, меняю курс.
Возможно, и этот вывод тоже спорен, возможно, мне только кажется, будто я изменился по собственной воле. Возможно, это не более как заблуждение, потому что я способен окинуть взглядом лишь свое маленькое «я» и свою маленькую жизнь, потому что мне еще неведомы те хитросплетения судьбы и те события, которые лежат далеко впереди и только начинают надвигаться на меня.
Я уже слышу, как умные люди, читая эти строки, говорят: Да он же фаталист! И мнят при этом, что дали мне точное определение. Тем самым они помещают меня в весьма многолюдное отделение недееспособных. Я фаталист, у меня фаталистическое мышление, а они нормальные, по крайней мере для этой страны. Ну и лады!
Я стремлюсь закрепить на ближайшее время, а если удастся — на всю оставшуюся жизнь свое сознание, понимание, проникновение, и я предпринимаю шаги, с помощью которых это может стать возможным: во-первых, я предупреждаю Хёлеров о своем уходе, но сперва я открываюсь только господину Хёлеру, я боюсь, что фрау Хёлер и Ханна начнут подыскивать возражения. Однако выясняется, что и сам господин Хёлер не хотел бы меня потерять. «Ах, какая жалость, — говорит он, выражаясь очень изысканно, — какая жалость! Встречаешь человека, с кем можно было обмениваться духовными ценностями, и вдруг этот человек тебя покидает, после того как уже покинул интересный господин Ранц». В это время господину Хёлеру еще не известно, что господина ландрата по имени Ранц скоро не станет. И вообще господин Хёлер ведет себя так, словно я исчезну через пять минут, он торопливо спрашивает меня, стоит ли ему изучать русский язык. Он бы охотно расширил свои возможности снова подвизаться на излюбленной им педагогической ниве. И я советую ему изучать русский язык.
И второй шаг: я шлю фрау Аманде, она же Эме, она же Ами, письмо. Так, мол, и так, я уезжаю, кладу конец своему пребыванию среди этих бездушных полей , потом я вычеркиваю патетические бездушные поля , но так, чтобы вычеркнутое все же можно было прочесть и воспринять как тень чувства из того времени, которое для меня кануло в прошлое. Зато в оставшейся части письма я суров и неумолим. И я не прошу, я требую. Оба сына принадлежат мне по закону. Такого-то и такого-то я намерен уехать, позаботься, чтобы к этому дню сыновья были собраны в дорогу.
Когда я читаю это письмо сегодняшними глазами, я вижу, что суровость, которую я в него вложил, несколько раз перешагивает границу смешного.
И шаг третий: я сообщаю родителям, что приеду, что хочу служить им подмогой, что по вечерам в нашей уютной пекарне я собираюсь писать роман, разумеется, просто так, для практики.
Я ограждаю свое осознание, понимание, мое сатори со всех сторон, чтобы никто им не повредил дружескими речами и проникновенными взглядами. Я даже предпринимаю четвертый шаг: я пытаюсь литературным способом сохранить это великое событие. Правда, впоследствии, перечитав свои излияния, которые некогда казались мне вполне литературными, я невольно улыбнусь — этот замкнувшийся на себе самом лепет, этот сдобренный сентиментальностью вздор! А позднее, когда я уже войду в союз и буду иметь дело с Вечным Эдвином, моим учителем и попечителем , он даст мне понять, что до сих пор я был социалистом чувства, и он предъявит мне для ознакомления свой социализм, но, если мои взгляды не стопроцентно совпадают при наложении с его взглядами, я буду для него враждебный элемент.
И Эдвин, Вечный Эдвин даст мне далее понять, что мои литературные усилия сразу после большой войны бьют мимо цели .
Но ведь господин Ранц и впрямь был уголовником!
Нереально, неслыханно! — скажет на это Вечный Эдвин, будь даже этот господин Ранц трижды уголовником, ты не имел права так гадко про него писать!
И еще Вечный Эдвин упрекнет меня, что я во всеуслышание заявил про представителя братского народа, будто тот чуть не застрелил меня, желая добраться до немецких женщин.
Читать дальше
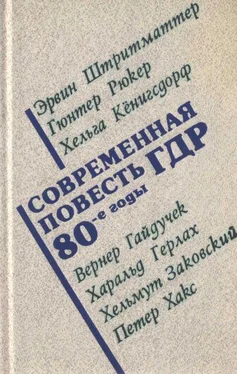







![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)



