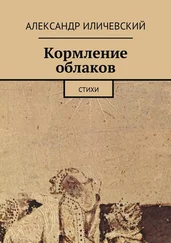У нее напрочь вылетали из головы и рецепты, и способы; могла забыть запастись мацой на Пасху и за праздниками не уследить; да и того хуже – была запросто способна с веником в руках пробродить как во сне день напролет по дому в неглиже, как была встав с постели – медленно и отрешенно: непонятно, то ли заглядывая во все потолочные закоулки и бестолково припоминая, как – со стороны ручки или метелки – следует правильно снимать паутину, – и потом уж и забыв, что именно сделать хотела: просто думая о чем-то, восхитительно далеком и бесценном, что ей сейчас столь же явственно и доступно, сколь и невспоминаемо после…
Иосиф, застав ее в таком состоянии, молча садился у порога и после, когда наконец приходила от его присутствия в себя, расспрашивал пристрастно, нервно, мучаясь. Оля искренне что-то припоминала – с трудом и бессвязно, будто разматывала ход сложного, долгого сна, – и никак, никак невозможно было понять, почему она ничего внятного, чем занималась весь день неодетая, не способна ответить. Он холодел, и снова спрашивал, и делал про себя разные предположения, отчаянно размышляя, что это измена, – и веник ему свидетельствовал, что был взят ею впопыхах – сделать вид в оправдание.
Кстати, истории о рассеянности Генриетты носят совершенно фантастический характер. Однажды, года три спустя после отъезда Иосифа, хотя он не дал ей развода, она повторно вышла замуж – за идейного, простоватого и доброго комиссара 11-й Красной армии, лихо вытряхнувшей в Гражданскую мусаватское правительство вместе с англичанами из Азербайджана.
Собираясь ехать вслед за ним, отбывшим по назначению, в Пермь, она продала за бесценок дом и все ценное, что не возьмешь с собою. Утром в день отъезда в дверь загремел, заорал почтальон: «Телеграмма!»
Генриетта, уже внутренне расставшись с домом, постояла, размышляя, у порога и решила не открывать – все равно не для нее, но для новых хозяев… Почтальон пошел по соседям – сыскать, кому бы оставить. Вырученное от распродажи Генриетта завернула в платок, спрятала на груди, взяла за руку Олю, обняла тюк с бельем – и, продираясь сквозь уличную неразбериху, как-то все же добралась до вокзала. Ей помогли забраться на крышу битком набитого вагона, и вечером, сидя с ребенком на тюке на перроне станции Баладжары – в ожидании, когда прицепят дополнительные вагоны, неосторожно наклонилась, платочек с деньгами выпал, и погодя, увидев какую-то лежащую в пыли тряпицу, окликнула толкавшуюся подле женщину:
– Мадам, не вы ли это обронили?
Та ответила утвердительно и, промямлив благодарности, суетливо удалилась.
В телеграмме, отправленной из Тулы, Кайдалов срочно сообщал, что переезд отменяется: сейчас он уже на пути в Баку.
Отец также вспоминал, что в его детстве, если он приходил к Генриетте вместе с братом, все было в порядке и недоразумений не возникало, – но если они приходили по одному, то у порога она подозрительно спрашивала:
– Стой, ты кто? Первенец или последыш?
Все страхи и бредни, приобретенные и вскормленные ею за свою жизнь, она со временем передала Оле; та же их восприняла накрепко – как проклятие. А страхов этих был целый короб.
Поначалу (и это, мне кажется, на деле послужило подлинной, экзистенциальной причиной его отъезда – меркантильные предпосылки явно вторичны: подумаешь, камень, – что толку в нем, когда вся жизнь кувырком, оттого что любимая насмерть жена легкомысленна, как парасолька, и предпочитает быть увлеченной чем-то для нее самой неосязаемо далеким, и ему тем более недоступным, но не семьей, не домом, – и шор на нее не надеть, и не присмирить никак увлеченность этой бредовой идеей о правде, свободе, равенстве, братстве – и еще черт знает о чем, что нашло такую благодатную почву для произрастания в ее взвинченном романтикой воображении) она страшно, вплоть до отвращения к себе, стыдилась своего мещанского замужества перед товарищами, в чей круг была затянута подругой и ее хахалем, художником-маринистом. На восторженных (с гитарой, пивом и стишками) сборищах она выполняла тупейшую секретарскую работу, приходя на них вместе с грудной Олей – несомой в охапке из одеял и пеленок, из которых головка ее выглядывала, как орешек из венчика. Генриетта оставалась на этих шабашах за полночь, – покормив и пристроив где-нибудь на сундуке в прихожей заснувшую дочь. Вернувшись, молча проходила мимо застывшего у косяка, как темный луч, Иосифа – и укладывалась на веранде вместе с ребенком.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу