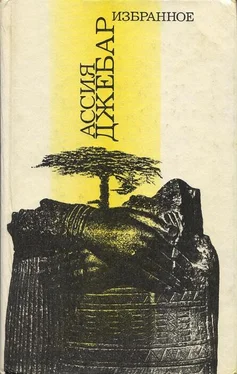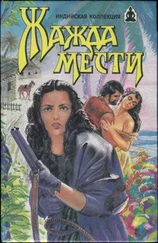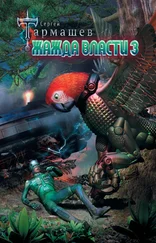Он говорил тихо, быстро, и голос его дрожал от волнения. Хотя внешне он не выглядел особенно возбужденным. Он стал мне противен. Может быть, и даже наверное, он был прав. И скорее всего, именно его правота была противна мне. Ну и пусть, какая разница?! Я ненавидела его.
— Замолчите! — сказала я.
Он внезапно затих. Я даже не смела и думать, что он послушается меня. Лицо его смягчилось. Он еще сильнее прижал меня к себе. Мне было так неловко. А он становился все нежнее, все ласковее. Но страх мой не проходил. И он сказал мне требовательно, с настойчивостью:
— Поцелуй меня! Поцелуй при всех!
— Вы с ума сошли, оставьте меня! Оставьте!
Я вся одеревенела.
— Поцелуй меня, — повторил он. — Поцелуй так, чтобы видел Али Мулай.
Мне было стыдно. Захотелось убежать куда-нибудь, скрыться. Но он, распаляясь, все бормотал, все твердил одно и то же, и в голосе его уже звучал гнев:
— Поцелуй меня!
Но тут танец кончился. Я пошла к нашему столику, пытаясь скрыть волнение, успокоиться. Хассейн шел за мной нетвердой походкой. Потом остановился, покачиваясь, перед Али. И, еле ворочая языком, произнес, показывая на меня пальцем, в то время как я не смела поднять глаза:
— Она не хочет…
Я резко встала, прервав его:
— Поехали!
Хассейн спал всю дорогу. Мы с Али молчали. Я ехала быстро. Спешила вернуться домой, поскорее остаться одна. Я чувствовала, как подступает злость, как ярость душит меня, несмотря на спокойную синеву слившихся, казалось, навеки воедино дороги и моря в уже опускавшихся сумерках.
Я остановила машину около отеля, где жил Хассейн, в ста метрах от въезда в наш приморский поселок. Отвернулась, когда Али стал будить его, чтобы проводить до номера. Мне хотелось рыдать от злости; это были бы, наверное, единственные слезы, которые бы меня утешили.
Когда Али вышел из отеля, я заметила, как удивленно вспыхнули его глаза: он уже не рассчитывал застать меня здесь. Вначале он доехал со мной до гаража, а потом мы прошлись вместе по дорожке, спускавшейся к морю, туда, где на краю поселка, на скалистом берегу, расположились наши дома. Ночь была светлой, лунной, и только наше молчание источало мрак… Но мы думали об одном и том же. Я сказала:
— Мне стыдно за него, стыдно! Из-за вас, из-за Джедлы, потому что вы оба такие чистые! Мне стыдно за саму себя!
Он тихо и ласково заговорил со мной, и его голос, звучавший в ночи, казался мне полным нежности. Я так хотела увидеть его лицо, но не смела посмотреть на него. Он говорил, что готов оказать мне любую помощь; что мне надо быть сильной; что у меня светлый ум, за что он меня и уважает, но этого недостаточно, и я должна действовать, что-то предпринять. Джедла и он мне обязательно помогут, он это обещает…
Он говорил долго; мрак сгущался. Когда мы проходили мимо его дома, я увидела свет в окне. Я сказала, что Джедла давно его ждет.
Он остановился у моей двери. Светивший неподалеку фонарь отбрасывал желтоватый свет. Али посмотрел на меня и невольно улыбнулся. Меня охватил какой-то внезапный порыв. Я и до сих пор не пойму, что со мной произошло в ту секунду. Я сказала ему: «Спасибо!», сказала горячо, взволнованно, и вдруг, схватив его руку, быстро поцеловала ее. А потом убежала, вся дрожа, сгорая от стыда. В моем жесте было столько униженности…
Когда я легла в кровать, все мои планы вылетели из головы, оставалось только ощущение какой-то потерянности, разброд в чувствах да смута в сердце. И все из-за того, что я поцеловала Али. Из-за аромата ночи, развязного голоса пьяного Хассейна, желтого света фонаря. Мне вспомнилось светившееся в ночи окно Джедлы. И как мы с Али прошли мимо него, не остановившись… Потом я уснула и спала, как обычно, глубоким сном.
На следующий день в присутствии Джедлы я смело, без всякого стеснения взглянула на Али. Он же избегал смотреть на меня, но я знала, что он ничего не рассказал своей жене. Али, таким образом, становился моим сообщником, сам того не желая. А я вела себя как ни в чем не бывало, и наша общая тайна не мешала мне хохотать и перешептываться с ним. Может быть, я просто-напросто лишена угрызений совести, во всяком случае чувствовала я себя неплохо, а это было для меня главным. Сегодня-то я удивляюсь, как это я умудрилась ни на минуту не задуматься о том, что он подумал обо мне, об этом моем поцелуе, вообще о моем поведении. Но в то время мое полное безразличие, пренебрежение мнением других и было, как мне казалось, моей силой. Если что-то в людях меня тогда и интересовало, то только они сами, их присутствие рядом, но уж, во всяком случае, не суждение их обо мне. Меня могла взволновать лишь чья-то улыбка, задеть чей-то взгляд, я была чувствительна к тому, как звучал чей-то голос. Вот почему, когда я в то утро увидела ненависть в сузившихся глазах Джедлы, я внутренне похолодела. До сих пор она чаще всего демонстрировала свое равнодушие ко мне. Ну, иногда презрение, еще реже — грубость. Однажды в ее взгляде прозвучало даже возмущенное «нет!», брошенное мне в ночь с порога нашего лицея, уже забытого нами. Но все-таки ее поступки по отношению ко мне никогда не были продиктованы чистой ненавистью, скорее каким-то слепым бунтом ее души или, попросту, бурным ее смятением. У ненависти же был особенный, холодный, ледяной отблеск, сродни тому мрачному свету, который застывает в глазах тех, кто терпит поражение. И я увидела его по — настоящему впервые только сегодня утром во взгляде Джедлы.
Читать дальше