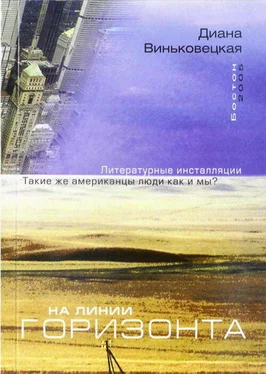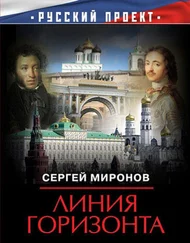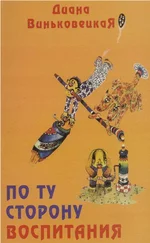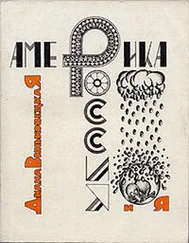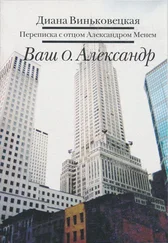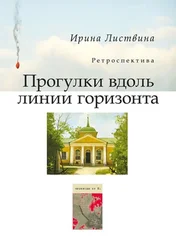Лагерь мы разбили на шлейфе подножья Кызыл–Тау, гранитных гор, внезапно и неожиданно возвышавшихся над степью. Горы были молодые, острые, дерзкие, с обрывистыми склонами, пропастями и безднами. В покатости «нашего шлейфа» были углубления, напоминавшие небольшие пещеры, гроты. Разрыв и углубив одну небольшую пещерку, Василич сделал погреб для продуктов. Из грота, который был недалеко от источника, он вырыл для своего жилья землянку, больше чем в рост человека. Две стены землянки оказались из мелкозернистого гранита, с прожилками розового полевого шпата, третья из брекчий, вкрапленных в светлопепельный лёсс. На полу Василич уложил деревянный щит, над входом в землянку, обнажалась дайка, трещина заполненная твердыми голубыми кварцитами, торчащие зубцы которой при взгляде снизу казались витками старинной башни. «Подземный дворец» вырыл себе только Василич, другие рабочие ленились, хотя и завидовали, что в такой землянке можно хорошо укрыться и от жары, и от ветра.
Повариха тётя Паша тоже работала по высшему разряду. Она такие придумывала блюда, что наслаждению, которое мы испытывали от её приготовлений, могли бы позавидовать посетители всех самых дорогих ресторанов мира. В кухне Василич сложил печку, делать всё: печь лепёшки, запекать дичь, жарить, а в казанах, замурованных наглухо в поверхность плиты, можно было тушить целых баранов, сайгаков, дроф. Дичь сама просилась к нам на обед, тем более, что начальник Борис Семенович был страстный охотник. Однако коронным блюдом тёти Паши был бишбармак! Даже в казахских юртах редко можно отведать бишбармак в таком изысканном исполнении. Барашек, отваренный в ароматных травах вместе с лапшой из ржаной муки таял в организме. Весной некоторые сопки покрывались молоденькой травой с оригинальным запахом чеснока, и этот полулук–получеснок, добавленный тётей Пашей в бишбармак и в другие кушанья, придавал пикантный вкус всем приготовлениям. А лепёшки с малиной, которые тётя Паша пекла по–казахски, на стенках печки, с чем сравнить?! Приходилось ли пробовать? Пили ли вы когда‑либо тёмный компот из свежей чёрной смородины, с сушенными грушами и яблоками? Все наслаждались тётипашиной кухней. С чувством уважительной гордости принимала тётя Паша наши восхищения: «Спасибо, дорога деточка!» — говорила она тому, кто просил добавки, и на её суровом лице появлялась лёгкая улыбка, при этом она слегка кланялась. При каждом обеде она приговаривала: «Кызымка засамая первая сядет — засамая последняя выйдет. И всё хохочет! И всё хохочет. Кызымке всё в смех».
Отношение к смеху в простонародье (да и не только) как к чему‑то чужому, непригодному, часто весёлые люди находятся в некотором презрении, тётя Паша считала, что только ненормальные и очень глупые могут смеяться. «По Агадырю ходит немой дурачёк, то ли татарин, то ли казах, ну, в точности смеётся, как наша кызымка. Ха… ха, да, ха… ха». И даже спросила у геофизика Вадима: «А не еврейка ли кызымка?»
Постепенно её снисходительное отношение ко мне стало принимать приятную форму: то насушит специально косточек от яблок, «кызымка, как трясогузка, страсть как любит эти зёрна», то зажарит любимые мною потроха, «кызымка одна токмо и съесть». Тётя Паша наблюдала за отношениями между всеми, делала умозаключения и оказывала свои предпочтения. Она заметила, что от меня зависит Василич. Я ему выписывала наряды. И хотя все в нашем отряде были только мужчины, но даже они заметили, что тётя Паша приветливей всего обращается с Василичем, его угощает, завтраки в поле заворачивает, миску с супом подаёт ему первому (даже начальник уступал эту привилегию). «Василич, возьми на канаву» — и нальёт целый бидон охлаждённого в роднике смородинного чая с мёдом — «Василич, изволь мясо с косточкой».
В дождливые дни все пристраивали свою промокшую одежду для просушки возле кухонной плиты. Тут тётя Паша была неограниченный властелин. Ключи от кухни в её руках приобретали власть ключей Петра, будто бы она отпирала и запирала небеса. Каждую вещь тётя Паша развешивала на своей иерархической верёвке в зависимости от положения её хозяина, вернее, своего к нему отношения. Она убирала, передвигала и меняла местами всё к своему месту, как Папа Римский, с притязаниями на «космический авторитет». Портянки и рукавицы Василича всегда занимали центральное место и висели на самых тёплых местах, затем шли куртки и принадлежности других фаворитов, «дорогих деточек», и дальше по рангу. Расстановка сапог и башмаков на плите, как некая высшая сфера деятельности, соответствовала установленным рангам тёти Паши. Кирзовые сапоги Василича возвышались над всеми другими и стояли у самого нагрева. Свои ботинки я часто находила где‑нибудь в последнем ряду, и со временем приучилась сама ставить их в отведённое место. Как‑то наш молодой рабочий Гришка потеснил сапоги Василича, и некоторое время спустя, можно было видеть, как гришкины сапоги вместе с портянками собаки таскали по всему лагерю. Тётя Паша их отлучила от печки. Высушенные вещи Василича, сложенные и проглаженные тётя Паша отдавала Василичу, и он произносил: «Борисовна, спасибо, уважила».
Читать дальше