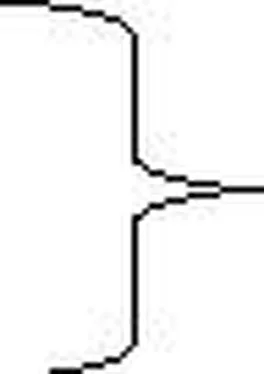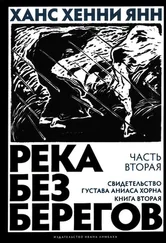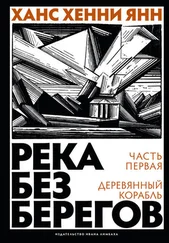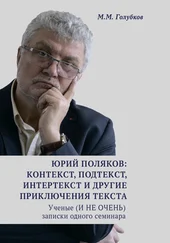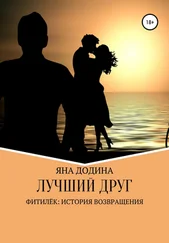Ханс Хенни Янн - Угрино и Инграбания и другие ранние тексты
Здесь есть возможность читать онлайн «Ханс Хенни Янн - Угрино и Инграбания и другие ранние тексты» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Угрино и Инграбания и другие ранние тексты
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Угрино и Инграбания и другие ранние тексты: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Угрино и Инграбания и другие ранние тексты»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Угрино и Инграбания и другие ранние тексты — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Угрино и Инграбания и другие ранние тексты», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Продолжение проблематики ранних текстов Янна в «Реке без берегов» и поздних статьях
Самый известный роман Янна - трилогия «Река без берегов» (1949-1950), - как ни странно, до сих пор не был последовательно прочтен, то есть проанализирован как целостная структура, как следующее определенной логике переплетение мотивов. Первая попытка такого рода - двухтомное исследование Нанны Хуке («Порядок Нижнего мира. Об отношениях между автором, текстом и читателем на примере “Реки без берегов” [35] Нанна Хуке анализирует только первую и вторую части трилогии, считая их композиционно завершенным произведением; работа над третьей частью, «Эпилогом», по ее мнению, была прервана Янном сознательно.
Ханса Хенни Янна и интерпретаций ее толкователей», Констанц, 2009) - очень много дала для понимания символической структуры книги, связи этой структуры с представлениями Янна о гармонике [36] Здесь - учение о математико-музыкальных принципах, лежащих в основе мироздания и устройства человеческой души. Это учение разрабатывали философы и математики античности (Архимед, Пифагор, Платон и др.), философы средневековой и ренессансной Европы (например, Кеплер, Галилей и Коперник), а в новейшее время оно было возрождено немецким музыковедом и теоретиком искусства Хансом Кайзером (Hans Kayser, 1891-1964).
, для понимания персонажей как воображаемых двойников автора; однако главный вывод - что «Записки Густава Аниаса Хорна» (вторая часть трилогии) представляют собой фантазии серийного убийцы, современного Жиля де Рэ, Синей Бороды, - кажется мне неприемлемым. Толчком для рассуждений на эту тему послужило, очевидно, подробное изложение Густавом истории Жиля де Рэ в последней части романа ( Niederschrift II , S. 295-303). Однако Густав вовсе не отождествляет себя со средневековым убийцей (см. там же , стр. 300):
Я твердо уверен, что никогда - ни на радость дьяволу, ни чтобы самому получить сладострастное удовольствие (у меня и в мыслях такого нет) не смог бы убить мальчика. А значит, я отношусь к этому преступлению почти беспристрастно. Я только хочу, поскольку прежде выразился неумело, найти слова, чтобы справедливо распределить ответственность и вину. Кто убивает мальчиков, не может надеяться, что будет оправдан. Этого не ждал и Жиль де Рэ. Он сам называл себя хищным зверем. Но разве пыточные подмастерья и палачи, которые по долгу службы ежедневно терзали плоть виновных и невиновных, растягивали людей на дыбе, накачивали их холодной водой или варили на медленном огне, не были зверьми еще большими? <...> То было время Столетней войны. Ни одна женщина не попадала в могилу, не будучи прежде изнасилованной. Потоки крови и чума... Разве никто не несет вину за то, что была эта Столетняя война, а после - Тридцатилетняя, а после войны возобновлялись через каждые двадцать пять лет? Разве жажда власти - не вина? И ложная история - не вина? И невежество народа - не вина? Разве невежество всех людей - не вина? И слепая вера - не вина? Распространять голод и чуму - это не вина? Если никто не несет за это вину - если такова воля Божья, - значит, по воле Божьей появляются и убийцы.
Для чего в романе вообще упоминается эта история, можно понять, прочитав статью Янна «Позднеготический поворот» (Spätgotische Umkehr), опубликованную в журнале «Круг» еще в 1927 году. Там период расцвета готики (XV век) характеризуется Янном так ( Werke und Tagebücher 7, S. 345):
Суровая, фанатичная вера врастала в жизнь. Такая духовность сковывала, и в повседневность вторгалась тьма. Мученичество, вина', нагота - их будто открыли только теперь; мужчину и женщину разобщили в их скверне: человека отлучили от человека. <...> Мужчине и женщине пришлось стать чужими друг другу, научиться друг друга ненавидеть, стоять друг перед другом без посредующей инстанции. Одному человеку предстояло стать господином, другому - слугой. И расщепленными оказались все живые, расщепленными - мертвые. Расщепленными на «добродетельных» и «порочных», на «проклятых» и «заслуживающих спасения». На «животную» и «благочестивую» части, на тело и душу, на кровь и дух.
Для Янна благочестивый рыцарь Синяя Борода - воплощение эпохи, совмещавшей отвернувшуюся от природных законов веру с самыми жестокими преступлениями. В этот страшный момент необходимый поворот - к милосердию, к приятию телесности, целостного человека, жизни со всеми ее противоречиями - совершили мастера: строители соборов, живописцы и, прежде всего, музыканты. О Святом Себастьяне работы Матиаса Грюневальда Янн пишет (стр. 346): « Это он сам - живописец, создавший святого по своему подобию, как некогда поступали боги, когда создавали человека». Благой поворот, плавно перетекший в Ренессанс, был остановлен в эпоху Реформации, которая привела к победе торгашеского рационализма. «Позднеготический поворот, если мы сомневаемся в наличии такового, тоже можно истолковать как работу одиночек - божественных вестников, которые потерпели поражение, как все божественные вестники, и остаются непобежденными, как всё божественное» (стр. 350). В другой статье Янна, где тоже идет речь об этом («Поэт и религиозная ситуация современности», журнал «Круг», 1930), сказано ( Werke und Tagebücher 7, S. 11): «Орудиями этого религиозного учения об освобождении были творческие личности, организованные в тайные союзы, ордена, строительные гильдии». Обращаясь к современному искусству и литературе («Задача поэта в наше время», журнал «Круг», 1932), Янн пишет (там же, стр. 22-23): «Не существует художника, заслуживающего такого имени, который не был бы одновременно гармоником . То есть не принадлежал бы к последователям этого тайного учения самой древней и самой великой традиции».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Угрино и Инграбания и другие ранние тексты»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Угрино и Инграбания и другие ранние тексты» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Угрино и Инграбания и другие ранние тексты» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.