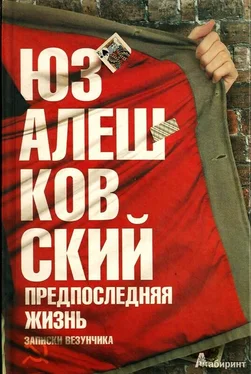Там же, то есть на земле, брал я тачку напрокат; носился на ней по окрестностям, бродил по деревням и другим крошечным городишкам; торчал часами в храмах, разглядывая иконы, картины и фрески старых мастеров; охотно болтал с хозяевами крошечных же кабачков, где по-человечески, как в старину, поили и кормили; и меня по-прежнему не покидало чувство того, что где-то совсем рядом, чуть ли не на виду, ясно, что на земле Италии, покоятся, хранятся, не желая быть найденными, ключи от таинственного моего дара.
Мне нравилось убивать время жизни, ротозействуя в музеях и бродя по старинным развалинам или бешено летая на тачке то в Бергамо и в Венецию, то в Рим, в Сиену, во Флоренцию — обратно в Бомарцо; летал, нисколько не боясь на виражах перекувырнуться; ведь изощренно наращиваемая скорость сообщает бесчувственному уму острейшую, как самому ему кажется, иллюзию близости чуть ли не к самому оргазму, видимо, достижимому только в смертельной аварии.
Бывало, несясь со скоростью под двести километров, размышлял я о техпрогрессе, в частности, о всевозможных орудиях ускорения — от колеса до ракет и синхрофазотронов, — созданных человеческим разумом специально для его бессознательно непримиримой войны со Временем… усовершенствование их потребовало таких огромных затрат энергии, что сегодня уже видны язвенные симптомы постепенной гибели атмосферы и биосферы планеты, не говоря уж о необратимом истощении земных недр… вот — установлены скорости, намного превышающие скорость звука, преодолевающие силы земного притяжения и позволяющие одолевать ближние пространства небес… вот — элементарные частицы разгоняются до околосветовых скоростей на сконструированных гениями орбитах… а Время как было, так осталось невидимой твердыней и неразгаданной непостижимостью… ясно было одно: каких бы скоростей ни достигали аппараты и самые мощные компьютеры, созданные человеком, — всепроникающее и всеприсутственное Время неубиваемо, сколько бы и как бы ни старались мы его убить… в старину то же самое регулярно пытались сделать люди с тем, кого они считали Богом, к примеру, с Дионисом… его убивали — он вновь воскресал, точней говоря, не умирал… так же поступили и с Христом, но, поняв, что с Богами не сладить, взялись за убивание Времени, ибо бессознательно всегда относились к нему как к Богу, действительно невидимому на глазах у вся и у всех…
Не заметив, как промелькнуло время, оказывался в Риме… по старой привычке покупал на красивом, удобном, огромном и суетливом вокзале русской и местной прессы, потом валялся в Бомарцо на балконе… блаженство — быть окруженным лишь степенно плывущими облаками и снующими ласточками да просматривать вести с родины… между прочим, было ясно, что это я для нее подох… она для меня и на чужбине продолжала быть живым родным пространством… чувству этому, несравненно более глубокому и, если уж на то пошло, более мистическому, чем всякие прочие «измы», как бы их ни дезодорантили и ни прибарахляли, — не мешала любовь к чужим языкам, священным камням, комфортабельным условиям городской жизни, жратве, вину да и к почитаемым душой прочим плодам итальянского крестьянства — плодам более древним, чем язык, мифология и религия… это нисколько не принижало моего чувства родины… его и не нужно было, что называется, питать, по одной простой причине: оно само себя подпитывало не завистью к чужим превосходствам, не глухой враждой к малознакомому укладу жизни, а любовью к данной, к малой, но великой части Творенья… ведь она, маленькая, величиной с географический сапожок, обожаемая всем человечеством часть, до того душевно и практично обживалась тысячелетиями и, слава богу, продолжает обживаться, что я и родине своей желал того же самого, высокодостойного обживания пространства, дарованного судьбой и историей…
Продолжал почитывать постсовковую прессу, болея за Россию, желая ей свободы, добра, народного благоденствия, словом, нормальной жизнедеятельности… естественно, доставали меня недоумочные, зачастую разрушительно уродливые, явно провальные, безнравственные и просто преступные дела перестройки, продолжавшие оставаться вопиюще безнаказанными или неисправленными.
Вдруг — фотка на четверть страницы: менты, машины, труп на необыкновенно черном, точней, немыслимо бесцветном асфальте, вблизи от дверей знакомого кабака… лицо дядюшки узнаю… Господи, Господи… лужица крови под ним… узнаю в дверях фигуру вышибалы-гардеробщика Ези, Езикова, бывшего лектора райкома партии, отволокшего червонец в спецзоне за растление малолеток, где ему буквально оторвали яйца, потом отпетушили и по инвалидности назначили завом петушиного инкубатора без выхода на общие работы… он стоял с разинутым от удивления звероподобным хавальником… сердце екало-бухало, воротило от чтения… все равно читаю газетный чей-то, под самой фоткой, репортерский штамп: «…практически неживой труп опознан… паспорт был выдан гражданину Пал Палычу Жирнову, уголовная кликуха Падла Падлыч, данная ему в кулуарах преступного мира ярыми врагами и конкурентами… до момента физической смерти возглавлял одну из многочисленных преступных столичных группировок…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу