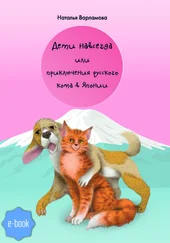— А что, если война? — продолжал Рыбаков. — Как ты будешь защищать родину, когда у тебя ее нет?
— Верно, никак, — согласился Владимир.
— Взять меня, к примеру. Я одинок в этой стране, ни семьи, ни друзей, и поговорить не с кем. Ты… ты уезжаешь в Праву. Вентилятор… только Вентилятор у меня и был, но теперь у меня есть вот это! — Он вынул свидетельство из кармана пиджака. — Теперь я — гражданин самой великой страны в мире, если не считать Японии. Послушай, я уже не молод, чего только не повидал в жизни и знаю: ты рождаешься, ты умираешь и ничего не остается. Надо принадлежать к чему-то, быть частью общего. Иначе кто ты есть? Никто.
— Никто, — повторил Владимир.
Ласло показывал на часы. Представление подходило к концу.
— Но ты, Владимир, дорогой мой человек, в Праве ты станешь частью чего-то такого большого, такого сильного, что навсегда перестанешь спрашивать себя: кто я есть? Мой сын позаботится о Тебе, как о родном. А когда я закончу свои дела с мисс Хароссет и картинами этого чертова Кандунского, чтоб им пусто было, я приеду навестить тебя и моего Толю. Что скажешь?
— Втроем мы отлично проведем время. — Владимир представил, как они гребут на лодке вниз по реке, запасшись корзиной с жареной курицей и банкой селедки.
— И я пройду по улицам Правы, гордо выпятив грудь… — Рыбаков выпятил грудь. — Пройдусь как красивый уважаемый американец.
Владимир обнял горбатую спину старого моряка и прижал его к себе. Запах, исходивший от Рыбакова, заставил Владимира вспомнить отчима своего отца, который умер в Америке, изрядно намучившись от цирроза печени, камней в почках и, если верить диагнозу доктора Гиршкина, скукоженного легкого. Запах был того же состава: водочные пары, резкий аромат средства после бритья и та острая промышленная вонь, которую ни с чем не спутаешь и которая вызывала в воображении Владимира ржавый стальной пресс на советском заводе, щедро политый машинным маслом. За таким прессом его неродной дедушка притворялся, будто трудится. Владимиру понравилось, что от Вентиляторного пахнет точно так же.
— А теперь, товарищ Рыбаков, — начал он, — или, как выражаются в нашей стране, мистер Рыбаков, я приглашаю вас выпить.
— Ишь ты! — Рыбаков схватил Владимира за нос полиароматными пальцами. — Ладно, идем за бутылкой! — Поддерживая друг друга, они вышли на непривычно тихую улицу, где над чугунными фасадами и вереницей брошенных мебельных фургонов висело тяжелое послеполуденное солнце.
Последние часына Манхэттене прошли в такси с тонированными стеклами. Роберта расщедрилась настолько, что выдала Владимиру в счет будущих доходов тысячу долларов из своих солидных сбережений и посоветовала не застревать нигде надолго и никому не звонить (особенно «той женщине»). Баобаб, по ее словам, прятался у родственников в Говард-Бич, в то время как его дядя Томми пытался договориться с Джорди о прекращении огня.
Владимир потратил две сотни, курсируя вокруг каменных загогулин «Утюга» [23] «Утюг» (Флэтайрон) — старейший небоскреб в современном Нью-Йорке, известный оригинальной архитектурой; построен в 1902 г.
, вдоль Пятой авеню мимо дома Руокко, затем по боковым улочкам Виллиджа, ведущим к станции метро «Шеридан-сквер». Именно на этой станции ежедневно сходила Фрэн, возвращаясь из университета, и Владимир вопреки всему надеялся увидеть ее, хотя бы мельком, перед расставанием навсегда. Он раз пятьдесят проехал по этому маршруту — тщетно. Удивительно, что таксист не свез его прямиком в психушку.
Пятая авеню, первая пятница сентября, предвечерняя жара и деловая суета, ларьки с шиш-кебаб, не закрывающиеся до утра, женщины с особой профессиональной приметой — выгнутыми полумесяцем икрами, ударницы труда, развивающие сумасшедшую скорость. В этом пупке вселенной, в самом ее эпицентре нарождался еще один великолепный вечер, первый нью-йоркский вечер, который пройдет без участия Владимира. Да, прощайте, все и вся. Прощай, Америка Владимира Гиршкина с ее возвышенными целями и кислым душком, прощайте, мать и доктор Гиршкин, и помидорная грядка, а также немногочисленные друзья, лелеющие свои странности; прощайте, ломкие товары и скудные услуги, на которых зиждилось существование, и, наконец, прощай, последняя надежда завоевать Новый Свет. Фрэн и семья Руокко, прощайте.
И прощай, бабушка. Если подумать, он должен был начать с нее, единственного человека, который упорно старался облегчить его пребывание здесь. С нее, носившейся за ним по холмам и лужайкам на деревенской даче Гиршкиных, пытавшейся впихнуть во внучка ломти дыни, горки творога… Как проста была бы жизнь, если бы она начиналась и заканчивалась заглатыванием пищи в обмен на любовь и неуклюжий поцелуй старухи.
Читать дальше