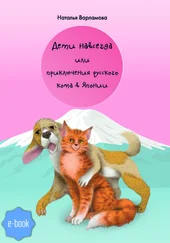— Ты хочешь быть хорошим для меня, — повторила Морган на удивление внятно, хотя ее и качало от малейшего дуновения ветерка.
— Да, — подтвердил Владимир. — И я хочу узнать тебя получше. Это как пить дать.
— Ты в самом деле хочешь, чтобы я рассказала о своем детстве в Кливленде? О пригороде, где я росла? О моей семье? О том, каково быть старшим ребенком? Единственной девочкой? М-м… О баскетбольном лагере? Ты способен представить себе, Владимир, что такое баскетбольный лагерь для девочек? В графстве Медина, штат Огайо? Но самое главное, к чему тебе все это? Думаешь, тебе будет интересно узнать, почему иногда я бы предпочла оказаться в лагере, чем сидеть в кафе? И про то, как я терпеть не могу читать чужие стихи, только потому что вынуждена это делать? И как меня бесят люди вроде твоего друга Коэна с их бесконечными разглагольствованиями про чертов Париж двадцатых годов?
— Да. Я хочу обо всем этом услышать. Несомненно.
— Зачем?
Нелегкий вопрос. И вразумительных ответов на него не существовало. Придется что-то выдумывать.
Пока Владимир соображал, задул порывистый ветер и облака потянулись к северу. Запрокинув голову и игнорируя тот факт, что они находятся в самом центре города, можно было вообразить, что остров сдвинулся с места, поплыл, маневрируя по излучинам и рукавам Тавлаты, взяв курс на юг, к выходу в Адриатическое море. А если еще немного проплыть, то они могли бы пришвартовать свой остров к берегам Корфу и резвиться там средь шелеста оливковых деревьев, под гармоничные трели щеглов. Что угодно, лишь бы закончить этот допрос.
— Послушай, — начал Владимир, — тебя бесит, когда Коэн заводит разговор о Париже и культе экспатриантов вообще. Но должен заметить: в этом что-то есть. Самые прекрасные три строчки, которые я прочел в жизни, — те, которыми заканчивается «Тропик Рака». Сначала позволь объясниться: я вовсе не канонизирую Генри Миллера как человека, он был женоненавистником и ярым расистом, и я по-прежнему испытываю глубокие сомнения относительно его писательских талантов. Я лишь выражаю восхищение последними строчками одного из его романов… Генри Миллер стоит на берегу Сены, он только что прошел испытание нищетой и всевозможными унижениями. И он пишет примерно так (прости, если немного ошибусь в цитате): «Солнце заходит. Я чувствую, как эта река течет сквозь меня — грунт, изменчивая атмосфера, глубокая древность. Холмы тихонько окружили ее: курс реки предопределен».
Он просунул руку меж ее теплыми ладонями.
— Я не знаю, хороший я человек или плохой, — продолжил Владимир. — И не уверен, можно ли знать об этом наверняка. Но сейчас я счастливейший человек на свете. Вот река — ее грунт, атмосфера, глубокая древность, и мы с тобой в пять утра посредине этой реки, посреди этого города. У меня такое чувство…
Она зажала ему рот его же рукой.
— Прекрати. Не хочешь отвечать на вопрос, не отвечай. Но хорошо бы тебе об этом задуматься. О, Владимир, только послушай, что ты говоришь! Ты не канонизируешь какого-то несчастного Генри Миллера как человека. Я даже не уверена, что понимаю, о чем речь, но звучит она довольно сомнительно…
Морган отвернулась, и Владимир уперся взглядом в строгий пучок ее волос.
— Знаешь, ты мне нравишься, — неожиданно сказала она. — Правда. Ты общительный, милый, умный и, думаю, хочешь добра людям. Своим журналом ты сплотил всех здешних американцев. Дал многим из них шанс. Первый в жизни. Но я чувствую… в итоге… ты так и не впустишь меня в свою жизнь. Я чувствую это, проведя с тобой всего один день. И мне любопытно — почему. То ли оттого, что ты считаешь меня дурой из Шейкер-Хайтс, то ли есть что-то ужасное в твоей жизни и ты хочешь от меня это скрыть.
— Понятно.
Владимир лихорадочно искал ответ, но что он мог сказать, чему бы она поверила? Возможно, впервые за долгое время лучше было промолчать.
На берегу, напротив замка, первые проблески рассвета легли на золотой купол Национального театра, и тот засиял над черными пальцами сталинской Ноги, словно священная подагрическая шишка; неподалеку трамвай, набитый рабочими первой смены, пересекал мост, и от его грохота дрожь пробежала по островку. И сразу же ветер стал совсем противным, подыграв Владимиру, которому очень хотелось обнять Морган. Ладонь соскальзывала с шелковой блузки, но он все равно ощутил Морган, бесконечно теплую, крепкую, пахнувшую потом и утраченными поцелуями.
— Тсс… — прошептала она, безошибочно угадав, что он собирается сказать.
Читать дальше