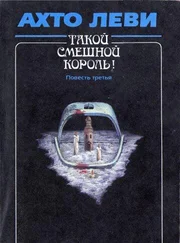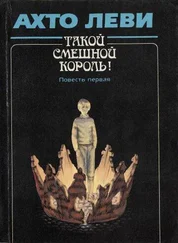Если ты мышь обласкал и она тебя полюбила, в бороде твоей жила, если ты воробья выкормил – он тебя полюбил, от тебя улетать не хотел, ты полюбишь и человека, и он тебе тем же ответит. Разве мог я забыть, чему меня научил Арсен, – милосердие к несчастным, любовь к человеку. Мы поменялись ролями на этот раз. И мне совсем не было противно убирать за ним, менять его постельное белье. Я не уставал его кормить и следить за тем, чтобы ничто не мешало его сну, чтобы всегда было тихо в палате, чтобы всегда был чист воздух. Я не уставал от его бесконечных капризов. На тумбочке лежали письма от его родных, на которые он уже давно не отвечал. Я написал за него его родным, что он болен, что он непременно выздоровеет. Я их не обманул. Он выздоровел, лежит теперь в общей палате, ест, шутит, смеется. Собственно, он и не лежит, он уже понемногу ходит.
А меня завтра выпишут. Поеду в бригаду. Говоря по правде, соскучился. Только теперь меня переведут в другую бригаду, в дорожную. Эта бригада состоит тоже из малосрочников и ходит под отдельным конвоем, но не хочется уходить с погрузки, там настоящие парни и работа что надо. И все же придется уйти. Меня теперь туда не берут: у меня язва и еще какая-то штука в левом боку. Товарищи давно заметили, что начинаю сдавать, все потихоньку старались уговорить меня перейти в дорожную, все чаще отдавали мне штабеля полегче, ставили на четверку и т. д. И я как-то тянул, работал. Но однажды вдруг в глазах потемнело, я бросил багор и упал. Через час меня отвезли в зону и поместили в санчасть. Я лежал, уставившись в потолок, и вспоминал, как когда-то давно, на острове, симулировал больного. Кажется, был у меня тогда «детский паралич»… Как давно это было, сколько прожито с того дня, и какой жизни..
Вечером с работы пришли парни. Они сразу от ворот прибежали в санчасть узнать, как мои дела. Набилась полная палата народу, и сочувствие этих грубых людей, выраженное опять-таки не без мата, было таким искренним. Я удивляюсь себе: как мог я жить среди них годами и видеть только моральных и физических уродов, обитавших в карцерах, БУРах, не вылезавших из зоны, пуще смерти опасавшихся загорбатиться от работы, и не замечать этих здоровых, крепких, жизнерадостных и дружных парней. Ведь они прошли, как говорят, огонь, воду и медные трубы; они окунулись в грязь до дна, но они выбрались, она стала им противна, и они ушли на чистый воздух, в лес. А из леса они уйдут на свободу. Уйдут с трудовыми мозолями на руках, уйдут, готовые к испытаниям, ко всему. Ну что ж, и меня грязь не затянула, я тоже пришел к ним на чистый воздух – в лес. И я совсем не виноват, что вот болею и должен теперь от них уйти. Но я не вернусь в зону, в небытие, нет – я иду также на чистый воздух, в дорожно-ремонтную бригаду, назло всем болячкам.
Когда меня на носилках вынесли из зоны, чтобы отправить в больницу, бригада провожала меня до ворот. Парни отняли у санитаров носилки и понесли их сами. Говорили о пустяках, да не в этом дело… Какая разница, о чем говорить, – это не главное. Главное – это проводить друга, быть с ним до самых ворот, пожать его руку на прощанье.
Хороший я прожил кусочек жизни с этими парнями, которые видели жизнь и найдут в ней свое место, очень хороший кусочек.
* * *
Утром, после завтрака и прочих процедур, что начинаются с подъема в семь часов, идем на работу. Нас десять человек – бригада. Собираемся у ворот и побригадно выходим за зону. За воротами нас встречает конвой, в распоряжение которого поступаем по выходе из зоны. Садимся на машину. Конвой читает ежедневную утреннюю «молитву», которая звучит приблизительно так: «Вы поступили в распоряжение конвоя и обязаны выполнять все требования конвоя беспрекословно. В строю по пути следования не разговаривать, не курить: при попытке к бегству конвой применяет оружие без предупреждения…» Затем следует традиционный вопрос, скорее угроза: «Ясно?!» Зеки отвечают хором: «Ясно!» Можно выезжать к месту работы.
Наше место работы – дорога, по которой едем.
Отъезжаем от колонии километров 20-25, слезаем с машины, снимаем инструменты, затем машина уйдет, а мы останемся, чтобы заделывать проломы до вечера, пока за нами опять не придет машина.
В бригаде каждый знает свое дело: кому подносить материал – таскает доски, шпалы; кому копать – с лопатой не расстается; кому на мотопиле «Дружба» работать – сверлит дыры; кому нагеля точить – этот целый день таскает на себе мешок с толстыми деревянными колышками и, когда приходим к пролому, затачивает их концы небольшим топориком; мой удел – кувалда. Тяжелая штука, 16 килограммов («понедельником» прозвали ее ребята). Мое дело забивать нагеля. Тяжело, но мне нравится. И я это делаю красиво. Раздеваюсь до пояса, надеваю рукавицы и – сто нагелей без перекура. После этих ста нагелей кувалда, правда, весит уже не шестнадцать, – сто шестнадцать килограммов, но зато ногам спокойно. Дело в том, что ничто, кроме кувалды, меня не касается, утром я ее обниму и расстанусь с ней только вечером. И это здорово: есть нагеля – забиваю, нет их – лежу на бревнах у дороги, загораю. А таскать шпалы, пилить, колоть, копать – удовольствие не очень-то большое. Кувалда в моих руках ходит легко, свободно, и движения мои, я знаю, гибкие. На меня в тот момент, когда забиваю нагеля, приятно смотреть. А мне тоже приятно внимание бригадников и конвоя, которые, чтобы лучше видеть, даже подходят поближе; хорошее это ощущение. Кувалда ритмично бьет по нагелям, они один за другим исчезают в древесине шпал. Да, еще осталось кое-что от былой силы, и, кажется, она с каждым днем все прибывает. Движение и воздух – лучшее лечение, против всех болезней помогает. Право же, это так, а если еще настроение хорошее, если имеются в запасе песня и смех, тогда и вовсе здорово.
Читать дальше