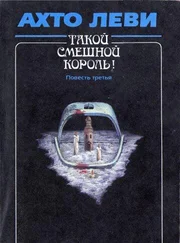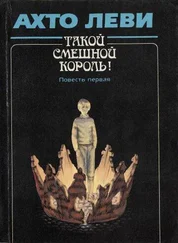* * *
Живу теперь в здоровенном ящике, около железной дороги, проходящей через территорию порта. Их тут целая гора, этих ящиков. Ящик, в котором я живу, такой большой, что мне с трудом удалось перевернуть его вверх дном. Я выбил несколько досок в одном его конце, и получилось надежное убежище от дождя и ветра. По соседству, через пару домов, то есть ящиков, проживает старая желтая собака, которая то появляется, то пропадает. Ночью она где-то промышляет, а днем спит, забившись в тень Сперва я ее старался прогнать, и она убегала, поджав хвост, жалобно и обиженно озираясь. Но через некоторое время возвращалась на свое место. Оставил ее в покое, ей тоже нехорошо. Вот в «Барселону» ходит один господин с розовым откормленным мопсом. И мопс этот – тоже собака, но разве сравнишь одну собачью долю с другой… А ведь моя рыжая приятельница ничуть не хуже этого мопса – спокойная, скромная, никого не обижает; о чем она думает, я, конечно, не знаю, но она мирная: не трогай ее – и она никого не тронет. Этот же мопс на всех окружающих тявкает, вертится, вырывается, скулит, визжит – никакого достоинства собачьего. И хвастун первоклассный: подражая хозяину, ходит на задних лапах, курит сигару и показывает еще какие-то там пустяковые номера, таскает в зубах перчатки хозяина.
Эх, жизнь… собачья… Уго был прав – мне тут нечего делать, никому я тут не нужен. Я ведь совсем один остался, если не считать рыжего пса. Недавно, напившись до чертиков, упав с четвертого этажа, разбился в лепешку Чухкади; а Джимми подцепил где-то сифилис и попал в больницу, а затем, выйдя оттуда, – за решетку. Но ведь есть же у меня мама и брат, и сестра. Черт возьми, зачем мне чужие мамы и все эти?.. Только там ведь коммунисты, а про них я ничего хорошего не слышал. Что, если они возьмут и отправят меня в Сибирь? Там, наверное, очень холодно… В Банхофлагере я много об этом слышал.
Легко сказать «поеду», а как? Я знаю многих, кто уехал на родину, но не знаю, когда и как они это сделали. Они исчезли, и все. Лишь после кто-то что-то кому-то говорил, и люди потихоньку узнавали, что такой-то уехал на родину, в Советский Союз.
Есть в Фленсбурге на Бисмаркштрассе дом с красным флагом. Когда-то, проходя с Чухкади мимо этого дома, я услышал от него, что это дом советских представителей. Наверное, следует пойти туда. Я тогда поделился своим планом с Чухкади. Он скачал: «Я, брат, сам поехал бы, да нельзя – вздернут…» Чухкади, возможно, вздернули бы, но меня, думаю, не вздернут. Не должны. Чухкади – он же спекулянт, капиталист, а я что? Мези тоже вздернули бы, наверное, и господина с мопсом, и эту тварь, которая меня за волосы рвала. Все они богачи или были ими. А я что? Нет, меня не вздернут. А так хочется видеть маму…
В Курессааре.
Целый день сижу в этой противной дыре совсем один, если не считать крыс. Эти гнусные твари совсем обнаглели, того и гляди укусят за ногу. Предлагал я Орасу обзавестись кошкой – не хочет. Что же, дождется, что эти твари его съедят. Куда это он сегодня пропал? С утра ушел, скоро вечер, а его все нет. Наверное, ищет для меня место. Очевидно, придется идти в лес, к «апостолам». Так думает и Орас. Что ж, я с удовольствием. В лесу интересно, а главное, там меня уж не поймают. Но каков гусь этот Эндл… Зачем ему надо было предать меня, ведь он же знал, что я не диверсант, не шпион, просто вернулся домой, к родным, к маме… Я же не виноват, что их нет, что они уехали куда-то. И о том, что отец воевал против коммунистов, я тоже не виноват. Эндл все это знал, как и то, что я не на парашюте спустился на родной остров, а репатриировался, как сотни, как тысячи других людей. Скажите, какой бдительный! Ну, ладно, бог даст – сочтемся. Орас говорит: «Надо мстить!» Я согласен.
Уже четыре месяца я на родине. 17 марта меня отпустили из фильтрационного пункта, и в тот же день я по льду перешел пролив Муху, чуть не утонул. Лёд был совсем тонкий, на полпути я потерял палку, а без палки вообще страшно. Часто встречались расщелины, в них угрожающе булькала черная бездонная вода. Вдобавок ко всему был туман и дул холодный, пронизывающий ветер. Когда из тумана вдруг выступили контуры домов, стал виден берег и пограничный пункт, я так обрадовался, что заплакал: живой остался, и дома!
Тремя часами позже я уже радостно шагал по улицам родного города. Навстречу шли люди – эстонцы, русские, добрыми казались все. Прошел через парк, мимо старой крепости к своей улице. Вот и дом голубой, наш дом. Но он показался мне каким-то унылым, странным. Ах вот что – занавески на окнах не мамины, вязаные, а марлевые. Обеднели, видно. Я постучал в дверь и услышал незнакомый голос. В доме жили чужие, по виду бедные люди. Где же мама? Они не знали, кто жил в доме до них и куда девались. У соседей узнал, что мамы, вероятно, нет на родине, а может быть, и в живых.
Читать дальше