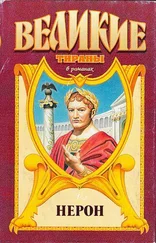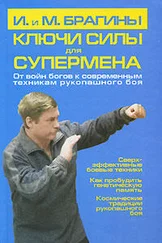Я отвечал, что был, что нашел его странным, больным, тревожным, но (я не смогу это объяснить) не упомянул ни про письмо, ни про то, что он просил меня присутствовать при разговоре и спрятаться за портьерой. Не знаю, почему я этого не сказал: может быть, потому только, что не сказал об этом сразу, а потом было как-то неловко это добавлять; словно я сначала скрыл главное, а потом, подумавши, открываю.
— Ну, ладно, — сказал Алексей Михайлович, и я понял, что он ничего не придумал. — Ну, ладно, разберемся. Вот вернусь, и разберемся.
— А если… если что-то случится? — сказал я осторожно, более боясь за опрометчиво высказанное предположение, чем за то, что и в самом деле могло случиться.
Чего я боялся, то и произошло: он усмехнулся.
— Ну ты уж прямо в детектив ударился, — проговорил он с облегчением и почти весело. — «Остров сокровищ», хромой пират, и, — он протянул в мою сторону руку, — и благородный юноша, спасающий, выявляющий, и прочее. Так?
Я ничего не ответил.
— Что может случиться?! Тем более что к вечеру я буду обязательно. Или, по крайней мере, завтра утром. Но нет — к вечеру, конечно.
Последнее он уже вновь произнес с озабоченностью, и хотя улыбнулся, улыбка вышла натянутой, а углы губ нервически дрогнули.
Он опять промолчал, потом взял книгу и вынул оттуда конверт, положил перед собой.
— Знаешь, я письмо от жены получил. Ничего особенного, хотя и долго не писала (я говорил, она у матери). Так вот, понимаешь ли, сегодня, когда я от этого доктора вернулся — внизу письмо. Вот и не верь потом, говори, что случай, что совпадение. И ведь пишет, чтобы я ни о чем не тревожился, ни о чем не думал, а отдыхал бы, что у нее все хорошо и она только обо мне… и так далее. Письмо как письмо, но… Если бы вчера еще пришло, а то — прямо в самую точку: «не тревожься ни о чем и ни о чем не думай». Вот я и думаю…
Он вложил конверт опять в книгу, хотел было встать, но только оперся о стол руками.
— Ты можешь меня выслушать? — сказал он вдруг и выждал несколько мгновений, добавил: — Я хочу просить, чтобы ты выслушал меня.
Я не мог отвечать и молча смотрел на него.
— Так, — проговорил он и приложил ладонь к виску. — Если и было когда мне в жизни трудно, то сейчас труднее всего. Ведь я могу и не ехать, могу совсем уехать отсюда, и — все, конец. Я это выдумал, мне это и прекратить. Так! Но вот вопрос: что я такое буду после этого, как все это прекращу? И другой вопрос: что станет со мной, если я поеду и… буду говорить там? Мне там, собственно, не о чем говорить. А поеду я только выслушать. Но знаю, что ничего хорошего не услышу. Я, видишь ли, сам затеял эту игру, а теперь…
Он опять оперся руками о стол, несколько помедлил, но встал, вышел на середину комнаты и — тут же вернулся на место.
— Я тогда, в войну, совершил подлость, — сказал он, торопясь сказать; и высказав это, и глубоко вздохнув, он продолжил уже обычным тоном: — Ты не подумай, это не касалось войны или службы. То есть, если так можно выразить, это была обычная подлость, так сказать — подлость мирного времени. Я увел у друга женщину, а потом бросил ее. Ты догадываешься, что друг этот был — Митин, а та женщина — Варвара. Так вот, оставил я ее тогда, потому что выдумал себе теорию, что брак на войне, то есть в неестественных для человека условиях, он как бы не действителен будет, когда условия станут естественными, то есть наступит мир. Ты помнишь, я говорил тебе.
— Да, — сказал я, — помню.
— Так вот. Тогда я это все очень правильно, логически верно обосновал, а если и считал себя виноватым (а все-таки считал), то только в том, что я под живого человека теорию подвел. Но оказалось, что это не самое страшное. Понимаешь — не самое. А самое то, что я вдруг понял… Нет, мне вдруг открылось, что в отношении друга это уже не просто подлость (это понятно), но полное отрицание собственной своей теории. Понимаешь, если я от него женщину увел (что случается, к сожалению, нередко, и при этом всяких оправдательных причин находится много, и по большей части оправдывающих), то, значит, я нарушил закон войны — да, да, ты не удивляйся. Нарушил. Понимаешь?
— Не совсем. Нет, про подлость понимаю, но почему же нарушен закон войны?
— Почему?! — воскликнул он так, словно это я его нарушил. — Да потому, что когда все люди, весь народ, вся страна, если хочешь — если все в одном напряжении, все силы отдают, а я вдруг в чужой карман залезаю и краду: какая разница — вещь, деньги или любимую. Разница в том только, что любимую — страшнее. Ведь тогда я его ослабляю. Ты понимаешь?! Тогда я как бы лишаю защитника родины части его сил, а следовательно, прямой вред стране наношу. Может быть, и не прямой, но все равно вред. Это, может быть, и нелепость, и так глубоко копать нечего, — но я-то чувствую! Оно, конечно, в масштабе общего это капля ничто, и слушать, может быть, никто не захочет, но я-то знаю, что этого нельзя, что я не просто преступил, что я вдвойне преступил.
Читать дальше