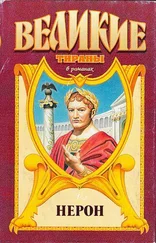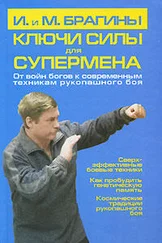Так мы вышли из корпуса, так и достигли перекрестка аллеи. Мне это место показалось наиболее удобным для прощания, и я резко остановился.
— Мне лучше пойти одному — сам понимаешь, — сказал я тоном, должным рассеять всякое возможное подозрение в лукавстве. — Спасибо тебе за сообщение, и так далее… Думаю, вечером увидимся.
Коробкин обиженно потупился и ничего не отвечал. Я подождал несколько секунд и, махнув рукой (впрочем, взмаха этого он видеть не мог, так как смотрел под ноги), быстро зашагал вдоль аллеи. Я шагал быстро, не оборачивался, но чувствовал, что мой Коробкин стоит все на том же месте и… мне стало неловко, и я стал повторять про себя, а потом и тихо вслух, первое, что пришло мне в голову. А первое, что пришло мне в голову, было — «Марта», — и я шел и повторял в такт шагам: «Марта, Марта, Марта».
Так я прошел еще с десятка два шагов, и здесь… И здесь я вспомнил, что не знаю адреса Марты и что идти мне, собственно, некуда. Я остановился, успев только произнести: «Map…», и круто развернулся на месте. Но аллея была пуста. Впрочем, кажется, кто-то шел вдалеке, и ребенок перебегал, толкая перед собой мяч; но я видел аллею пустой. Тогда я, ни о чем не думая и уже не примериваясь к собственным ощущениям, бросился назад — по пустой аллее, в пустую аллею. Я добежал до перекрестка, посмотрел направо, налево, потом себе под ноги и — задержал взгляд. Кто-нибудь сказал бы в этом месте, что «судьба сыграла злую шутку», но я не сказал этого, хотя «шутка» и была, а сказал другое. Я довольно громко произнес: «Дурак!» — и если бы кто-то слышал произнесенное, то у него не было бы сомнений относительно предмета, к которому это определение относилось, этот «предмет» был я сам.
Но не успел я произнести, а вернее, осознать правоту сказанного, как последовал ответ. Ответ этот прозвучал из кустов, справа от меня, и был повторением только что произнесенного слова, только еще в более утвердительной форме. Из кустов, справа, голос Коробкина сказал: «Дурак!» Я шагнул к кустам и увидел его. Он сидел на краю покривившейся и вросшей в землю скамейки, нога на ногу, смотрел на меня внимательно и улыбался.
— Кто дурак? — спросил я невольно.
— Так, — ответил он и пожевал губами.
— А что сидишь? — опять сказал я, еще невольно, но уже с некоторым нетерпением в голосе.
— Так, — повторил он и пожал плечами. — Сижу.
— А как же… привычка… и море?
— А ну его, — он махнул рукой и встал, — надоело.
Он шагнул ко мне, к кустам, которые разделяли нас, протянул руку, сорвал листок, растер его в пальцах и, внимательно посмотрев на получившееся, проговорил, как бы про себя:
— Вернулся, значит.
— Как видишь.
— Понятно.
— Что понятно?
— Что вернулся.
— Вернулся, потому что адреса не знаю.
— А что же не спросил? — лениво сказал он.
— У кого?
— Да у меня хотя бы, — пожал он плечами.
— А ты откуда, — начал было я, но не стал договаривать бессмысленного вопроса, а сказал другое. — Пойдем, — сказал я спокойно и даже (неожиданно, словно не я сам управлял собственным голосом) просительно, — покажешь, и вообще… со мной.
— Что вообще? — спросил он, глядя в сторону и опять дотрагиваясь пальцами до листка.
— Поможешь, — проговорил я, поднимая глаза, и добавил: — Пойдем, прошу тебя.
И мы пошли. Быстро, как и тогда, когда шли от Алексея Михайловича, только теперь Коробкин шел впереди, вел, а я едва поспевал за размашистыми его шагами.
Оказалось, что и в самом деле недалеко: минут через двадцать мы, выйдя за ограду санатория, спустились за набережную, поднялись на некрутой, но массивный холм, похожий на пенал и покрытый чахлыми кустиками, напоминавшими растительность пустыни, — и увидели внизу несколько рядом стоящих домиков. Отсюда, сверху, хотя расстояние было совсем небольшое, домики выглядели игрушечными. Заборы подходили к самому пляжу, не было видно ни души, и все так мне показалось там уютно устроенным, и каким-то таким спокойствием повеяло оттуда, что я подумал: «Вот так жить бы себе — тихо, славно, не думая о будущих годах и не сожалея о прошедших. Утром бы вставать с солнцем, выходить бы к ограде и глядеть вдаль — долго-долго, пока даль не сольется с чем-то таким похожим на нее у тебя в душе. А зимой сидеть бы у печи и слушать ветер, а весною бы смотреть на зеленые листки и чувствовать с радостью, что торопиться некуда и незачем. И еще, если бы о н а, и с нею бы сидеть у печи и слушать ветер, и с нею бы по весне смотреть на листки и никуда не торопиться». Так сказалось во мне, и я остановился и, приложив ладонь козырьком ко лбу, хотя, впрочем, солнце было за спиной, посмотрел на цепь игрушечных отсюда домиков. Но только я приложил ладонь козырьком и посмотрел на домики, как другой голос во мне отчетливо спросил: «У печи сидеть — хорошо, с нею быть — хорошо, никуда не торопиться — хорошо, но — делать-то что-то надо? Ничего не делать — нехорошо. А делая, разве сможешь думать, что некуда торопиться?»
Читать дальше