На следующий день Эгея покорно сняла, по совету юноши, свои широкие, цеплявшиеся за ветки серьги, оторвала от платья полоску материи и подвязала растрепавшиеся волосы. Она еще не пришла в себя после всего случившегося, ей казалось, что Жан-Малыш — выходец с того света, который явился, чтобы отнять ее у родных, увлечь в бесконечный ночной мрак. Может, и правда с ней случилось то, что когда-то с ее матерью? И напрасно Жан-Малыш клялся, что он живой, что он человек из плоти и крови: она упрямо трясла головой и молча шла по лесам и оврагам, над которыми стоял вездесущий запах прели. После третьей бессонной ночи наш герой начал бредить на ходу, он спотыкался о корни, падал на землю, будто нырял в пропасть, увлекая за собой девушку. Мертвая от усталости, та уже ничего, кроме Жана-Малыша, вокруг не видела, временами на нее находило полное помрачение, она смирилась с тем, что попала, как ей думалось, в загробный мир. И не зная, как ей, усопшей, теперь вести себя, она заунывно напевала древнюю песнь, которую раньше часто можно было услышать от стариков, когда они вспоминали о хлестких ударах бича и бочках, утыканных изнутри гвоздями:
Не видать ли там земли
О спаси избавь от горя
Не видать ли там земли
Только море море море
Эй взгляните с корабля
Не видна ли там земля
О спаси избавь от горя…
Они вышли к реке, и тут Жан-Малыш упал и уже не смог подняться. Он полз, вонзая ногти в землю, и улыбался в забытьи, и казалось ему, будто он уже целую вечность не слышал журчания бегущей по камням воды. Вдруг он покатился по круто срывавшемуся вниз берегу и канул в беспамятство. Ему снилось, что он охраняет покой Эгеи. Когда он открыл глаза, над землей еще плыла серая мгла, но в черной вышине уже вспыхивали, пускались в пляс огни, такие яркие, что ему пришлось зажмуриться. Эгея лежала рядом и молча смотрела на него. Заметив, что Жан-Малыш проснулся, она улыбнулась своей прежней улыбкой, погладила его по щеке и прошептала:
— Это я, Эгея, ты узнаешь меня?
Одного этого взгляда хватило, чтобы рассеять ночь. Она подала ему руку, и они снова тронулись в путь, и теперь ее рука не вырывалась, спокойно лежала в его ладони; и не было больше под их ногами ни острых камней, ни колючек, они ступали по земле как по пушистому ковру…
Неделю скитались они по горам, а потом тайно возвратились в деревню, зайдя с другого берега Листвяной реки, и там укрылись меж могучих витых корней фигового дерева, которые смыкались над ними пещерным сводом. И началась для беглецов странная жизнь. Жан-Малыш хозяйничал в лесу, как у себя дома. Искал съедобные плоды и коренья, охотился на мелкую дичь, выслеживая ее по запаху, стрелял на слух — этому он научился еще раньше, на ночных горных отрогах. Петляя, как дикий зверь, переходя реку вброд, а не по мосту, чтобы сбить со следа собак, он наведывался в Лог-Зомби. Приходил он только ночью — той ночью, которую раньше называли днем, — и навещал только матушку Элоизу, потому что теперь появились такие люди, такие соседи, или, скорее, такое подобие людей и соседей, единственной усладой которых было донести на ближнего, сделать так, чтобы он хлебнул самого горького лиха…
Лесные запахи больше не влекли матушку Элоизу, и она дожидалась своего конца в родной дощатой хижине, той самой, что построил для нее покойный Оризон, что хранила сладкий аромат ее молодости, счастливых дней жизни. Обычно Жан-Малыш заставал ее сидящей на низенькой скамейке, с маской из белой глины на лице, которую она не смывала даже ночью. Если бы не этот знак траура, то можно было бы подумать, что мрачные события обошли ее стороной. Часто она говорила спокойным, счастливым голосом, который противоречил траур ной глиняной маске, странно ее молодившей: «Пусть шире разольется горе, ведь это бальзам для наших душ, но сам-то ты не очень убивайся, а если спросят, откуда берешь силы, скажи только, что плоть твоя тверже скалы, а сердце крепче железа, вот и все». Но слова эти не утешали Жана-Малыша, он чувствовал, что на мать спускается мутная пелена безумия, и, когда он подходил к своему дому и слышал песню, которую матушка Элоиза сочинила сама для себя, сердце его тоскливо сжималось — старушка заунывно тянула в одиночестве что-то вроде невнятной молитвы, часто переходя на вкрадчивый шепот будто желая поведать людям великое таинство:
Безумье о безумье в том
Чтоб так уйти простясь с житьем
Она младенца родила
И вдруг задушен тенью свет
Не ночь спустилась на поля
Не сумрак нет
Под тенью жизни спит земля
Перешагни ее сынок
Иди вперед преследуй цель
Она за тридевять земель
А путь твой тяжек и далек
Читать дальше
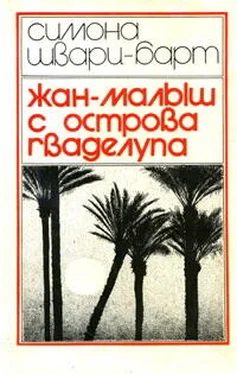
![Андре Шварц-Барт - Последний из праведников [Le Dernier des Justes]](/books/30712/andre-shvarc-thumb.webp)



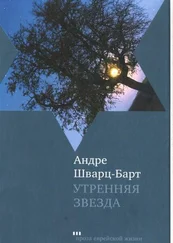

![Симона Дэвис - Монтессори для малышей [Полное руководство по воспитанию любознательного и ответственного ребенка] [litres]](/books/402222/simona-devis-montessori-dlya-malyshej-polnoe-rukovo-thumb.webp)


