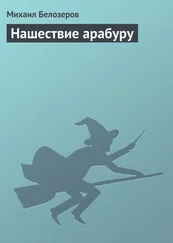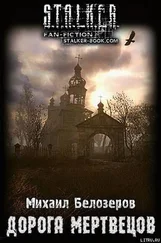Не бойся, думаю я, уж твое дело долго не кончится...
— У меня к тебе есть приватный разговор дружеского характера, — произносит он, меняя тон на покровительственно-заговорщический и похлопывает меня по спине, потому что она предательски согнулась (не ссориться же мне с этим напыщенным ослом из-за такого пустяка) и приняла услужливую форму по старой памяти почтения, которую закрепляют с детства, если вас посещает важный сановник и родители не знают, в какой красный угол его посадить.
Замечаю, как горд Пятак, словно это его похлопали по одному месту. Кажется, глазки его подергиваются умилительной влагой.
Итак, я взят под опеку. А это значит, что состоялась личная или телефонная беседа с вкрадчивостью и тонкой лестью с одной стороны и всемогущим барством и снисходительностью с другой. Ясно, что это работа матери — ведь хорошо известно, что достопочтенный Николай Павлович руководит райздравотделом в нашем городе.
Девицы ловят разговор открыв рты, награждают меня долгими взглядами, в которых глупенькое куриное любопытство помножено на стремление побыстрее приобщиться к обществу старших, и утыкаются в свои тарелки, куда мать спешит и подложить дополнительные порции. Кому же достанется больше (при всей притворной деликатности мать не способна до конца скрыть свои намерения). Ага — все же Оленьке. Впрочем, вполне возможно, это делается чисто интуитивно.
Оленька закрывает глаза, как ее папаша в порыве гнева, и нервно косит, выказывая все признаки своенравной натуры.
Ба-а-а!.. Ужели она... Святое семейство!
Я усаживаюсь на единственный свободный стул рядом с моей бывшей женой. Перебрасываюсь приветствием с ее мужем — тем самым Савелием Федоровичем, о котором так трогательно беспокоилась мать, и думаю, что ему, действительно, не о чем беспокоиться по двум причинам. Первое, мое отношение к его супруге — самое безразличное. Мы слишком надоели друг другу за более чем десятилетний срок, и второе — возраст, в котором пребывает этот молодящийся проректор, — возраст, от которого не скроешься ни за молодежного покроя светлым костюмом, ни за короткой спортивной стрижкой, должной сбросить десяток лет, ни за чрезмерно впившимся в животик ремешком (подтяжки носить категорически запрещается, представляю, каким тоном это высказывается), и в моем воображении он предстает в ванной, где рассматривает свой профиль, подбирает живот, помня поучения молодой жены, удрученно вздыхает и пускает воду, чтобы принять душ-массаж на эту самую часть тела и вселить в себя надежду на похудение и на то, что его дражайшая половина пока еще не наставила ему рога.
Собралось все окружение моих родителей. Уже упомянутый Николай Павлович, мальчикообразный старичок, занимающий кресло в одном учреждении, должность в котором передается по наследству отцами города по причине престижности учреждения; человек без особых примет (желающий их получить), но который присутствует при раздаче таких кресел (думаю, что его приглашают как раз по этой причине); четвертый — сошка по сравнению с тремя первыми, допущенный сюда ввиду будущих несомненных заслуг (в любой компании такие имеются — преемственность!), но по тому, что он не распустил галстук и мучается в пиджаке, я рассудил, что он котируется не выше водителей, которых позднее позовут отобедать на кухне. Про себя называю его Мурзиком.
Вы встречаете таких мурзиков в лице главного инженера или какого-нибудь зама, или — так себе — затычка где-нибудь до пенсии, — распахнутое пальтецо, пиджачок — как вещественное удостоверение души, и липкая наглость человека, который может пнуть пса или ударить женщину. К сорока у него появляется собственное брюшко, но никогда — собственное мнение, к пятидесяти — гипертония в легкой степени и смесь цинизма с нытьем и изливанием души, которым он докучает жене и собутыльникам.
В общем, это был мирок, разбухший от чванства и подобострастия (оказывается, эти два чувства могут существовать в таком сочетании) и который был не лучшей стороной нашей жизни, но который обладал одним важным атрибутом — властью и возможностью этой властью пользоваться.
Это были слуги этой власти, клан с тузами на руках, твердо усвоившие правила игры, толкователи догм, опоры и столпы — Стая.
Надо иметь испорченное обоняние, чтобы не чувствовать запашка, или нездоровое воображение, чтобы предаваться грезам, или просто быть идиотом, чтобы не замечать явных вещей. Всякий раз, когда я докапывался до сути, последний шаг к выводам мне мешало сделать "классическое образование", багаж предрассудков, ложное чувство единения толпы со Стаей. Легче было научиться писать по-китайски, чем освободиться от того, чем я был напичкан. Но даже если я заглядывал в тот вывод, заглядывал одним глазом, сдерживая дыхание, становилось страшно, потому что оказывалось, что все, чему меня так долго учили, не вяжется со всем тем откровением, которое излагали эти люди в тесных беседах (скорее смахивающих на митинги без оппонентов или игры в одни ворота, ибо микрофоном или мячом всегда владела одна и та же команда). Думаю, что у меня всегда был шанс сидеть на равных с ними за одним столом и помыкать подобными Мурзику — даже после худших времен, пока отчим плакался и отмывался в бесчисленных комиссиях.
Читать дальше