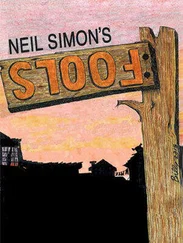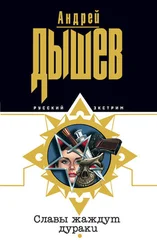Вот он выходит на стадионе к микрофону, вот берет слово, которое ему так настойчиво не хотели давать, вот застывает, строгий, подтянутый, в темном, по фигуре, пальто. Вокруг амфитеатром трибуны, сорок тысяч народу, готового встретить оратора свистом, готового и замереть.
Поздний склоняется к микрофону, уже как бы намереваясь начать, потом выпрямляется, чуть отступает... Снимает шапку, обнажая высокий открытый лоб, еще мгновение молчит и только потом произносит тихо, но так, что по огромной толпе, ставшей вдруг одним телом, пробегает озноб:
— Браты...
Какой язык может быть понятнее? Даже если бы ничего больше он не сказал. Недаром так ежатся «пыжики» рыжей проплешиной на центральной трибуне. Недаром взрывается овация, а потом наступает такая тишина, какой не бывает, просто не может быть на стадионе.
В этой вот тишине ко мне и подошел полковник, тот самый, кто 30-го просил народ у кладбища разойтись, с лицом крестьянина и с мегафоном, сейчас, как и тогда, болтавшимся через плечо, на котором с тех пор прибавилась звезда. Как-то странно он на меня надвинулся и негромко, отчетливо проговорил:
— Были газы. И применялись. Если надо... я готов подтвердить.
Что-то непонятное вдруг случилось. И вот уже лжесвидетель Петр Лукич Ровченко, еще не предавший Евсея Ефремовича, но уже предающий, уже догадавшийся, что с партийными принципами того и гляди пролетишь, что тут уж, когда корабль тонет, спасайся, кто может и как может, хватаясь за любые плавсредства, которые (вроде) надежнее спецсредств, готовый и пыжик снять, и пальтишко пообтертое надеть, и на несанкционированный митинг явиться, и на родную мову перейти, принимается вдруг на митинге эту самую мову перед толпой защищать и отстаивать. Но не тут-то было. Толпой он освистан, высмеян и согнан с садовой скамейки, игравшей роль трибуны:
— Кончай демагогию!
— С этим все ясно! И:
— Хопіць пра мову. Давай пра справу... [21] Хватит про язык, давай о деле.
VII
— Что твой Орловский? — звонит из Москвы Анатолий Стреляков. — Все еще на свинокомплексах? Все еще из коровников не вылезает? Он что, совсем не разумеет, какой сейчас век?
— Орловскому тяжело. Недовольны пустыми прилавками, отсутствием мыла и колбасы... А требуют почему-то совсем иного,
требуют смелых оценок и политических свобод. Ладно интеллигенция, но народу что это дает?
— Он что, ничего не понимает? — кричит в трубку Стреляков. — Он что — совсем?.. Он же нормальный, разумный мужик... Впрочем, это не должность...
Если меня назначат руководить симфоническим оркестром, каким бы я ни был хорошим человеком, это не для меня. Если музыкально я не образован, музыку не очень люблю и не очень понимаю, к тому же начисто лишен музыкального слуха, то, каким бы я «нормальным мужиком» ни был, с оркестром у меня ничего не получится.
Евсея Ефремовича, что называется, подловили. Все тот же Павлик Жуков, отчаянный неформал, в своей полулистовке-полугазете «Навины» напечатал «Думки о перестройке». Несколько цитат без всякого комментария. Сначала Горбачев: «Перестройка — это продолжение Октября», потом из «Литгазеты»: «Перестройка — это последний шанс на будущее», потом Орловский: «В прошлом году продуктивность коров увеличена на 570 килограммов, за 9 месяцев этого года — еще на 361. К уровню 1985 года в 1,6 раза выросли прибавки в весе крупного рогатого скота, больше чем в 2 раза — прибавки в весе свиней. Вот это и есть перестройка на деле». Стреляков смеется:
— А что Орловский?
— Ночью в Дом писателя ворвались милиционеры и пожарные. Устроили повальный обыск. Взломали дверь комнаты, где хранились документы оргкомитета Народного фронта, все перерыли и ушли, прихватив с собой десять тысяч экземпляров «Навин»... На запрос руководства Союза писателей органы МВД разъясни ли что прибыли в Дом писателя после того, как им позвонили, что в эту комнату подложена бомба. Но миноискателей у милиции и пожарников не было.
— Он знает об этом?
— Не думаю... Событий без того хватает. Вполне возможно, что постарались и без него...
— Ваши начальники слепы, как котята... Он что, твой Орловский, совсем ничего вокруг не видит? У вас же там под боком Прибалтика. Он что, не понимает, из-за чего в Литве, в Эстонии слетели первые секретари, он не видит, что и его это ждет?.. Не ощущает неотвратимости? Или... не хочет ощущать?
— Видит. Этого и боится, этим его и пугают.
— Бедный... И что он собирается делать?
Читать дальше