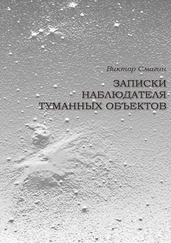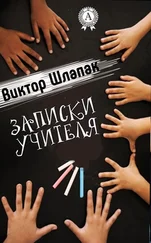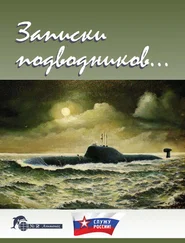Прибежал опер Шаров, он уже все знал, сказал:
— Пойдем, Карась.
— Начальник, подождем вторую смену, я не весь «расчет» получил, еще пятерых ухоркаю, сполна рассчитаюсь с махнотой. Ты же сам видишь, какой беспредел они творят в зоне. Да и тебе, начальник, поспокойнее будет, а мне все равно «вышка».
— Нет, нет, Карась, пойдем. «Вышки» тебе не будет. Это я тебе говорю, — сказал майор. И они ушли.
Был суд. Володе дали расстрел. Но по ходатайству администрации зоны, где немало усилий приложил Шаров, Карасю «вышак» заменили пятнадцатью годами. Поскольку хуже особого режима уже не бывает, оставили тот же — особо строгий.
Шаров молодец, сдержал слово.
По поводу «благополучного» исхода с Карасем, а также по заявкам широкой общественности нашей камеры я под гитару исполнил одну давнюю лагерную песню: «Суд идет, процесс уже кончается, и судья читает приговор, и чему-то глупо улыбается лупоглазый толстый прокурор, и защита тоже улыбается, глупо улыбается конвой, слышу — мне статья переменяется: заменили мне расстрел тюрьмой». В натуре, песня была кстати, в резонанс событию.
10
Надзиратель открыл дверь камеры и сказал:
— Пономарев, собирайся. Шаров вызывает. Только робу полосатую сними, надень другую.
— А зачем, разрешите вас спросить, гражданин начальник, я так привык к полосатой, да и она мне больше к лицу, в ней себя чувствую адмиралом Нельсоном, — поинтересовался я.
— Меньше разговоров, Пономарев, там узнаешь, — сказал надзиратель.
Я стал переодевать робу. Подошли Юзик, Слепой, спросили:
— Ты что натворил, Дим Димыч? Куда тебя?
— А… его знает, — чистосердечно признался я в своей неосведомленности, — может, на экскурсию куда хотят сводить. Не зря полосатку приказали снять. А может, корреспондент какой хочет встретиться, поинтересоваться, как хорошо и счастливо нам здесь живется. Не зря же меня, самого толстомордого из камеры, выбрали. Володю Слепого вон не пригласили. А все почему, он вылитый Кащей, только в молодые годы. Или Мирзу не позвали, так он больше на дервиша похож, а не на образцового советского зека, твердо ставшего на путь исправления, регулярно перевыполняющего производственный план. А может, из Организации Объединенных Наций какая делегация пожаловала. Ну, не могут они вопрос «вермутского треугольника» решить, хотят, чтобы я им помог. Что же им еще делать? Короче, ребята, останусь живым — расскажу.
Меня привели в кабинет оперуполномоченного. Шаров сидел за столом и что-то писал. Он только буркнул:
— Наденьте на него наручники.
Один из конвоиров защелкнул на моих запястьях наручники.
— За что, начальник? — обратился я к Шарову.
— Сейчас поедем в Винницу, какие-то прошлые твои подвиги стали всплывать.
«Вот дела, — подумал я, — этого еще не хватало». Вон как родина меня ценит и как мной дорожит, если меня на «воронке» под охраной трех автоматчиков доставили в винницкую тюрьму и посадили в одиночную камеру.
Два раза вызывали на допросы по делу директора меховой фабрики. Ничего нового я следователю не сказал, но из разговора понял, что «замели» Михаила Моисеевича, и он уже сидит здесь же, в винницкой тюрьме. Зацепили еще большую компанию таких, как он.
Через неделю меня повели в баню. Тут-то я и встретил Михаила Моисеевича, только не в тюремной робе, а в белом халате. Банщик при тюремной бане. Он меня тоже сразу узнал. Встретились, как родные, разговорились.
Он рассказал, как его арестовали, как делали обыск. Нашли во дворе возле туалета зарытыми восемьдесят тысяч, под собачьей будкой выкопали драгоценностей тысяч на двести.
— Но это, Дим Димыч, все ерунда. Тебе сколько осталось сроку?
— Около двух лет, — ответил я.
— Ты смотри не задерживайся, я тоже не думаю засиживаться здесь. Годика два, не больше. Когда выйдешь, Дим Димыч, сразу ко мне. Нам с тобой на жизнь хватит, а такой человек, как ты, мне нужен. Есть еще стоящие ребята на примете? Будем работать. Личным секретарем будешь у меня, а зарплата — сколько сам пожелаешь, но в пределах разумного.
«Вон ты как запел, Михаил Моисеевич. А говорят, тюрьма не воспитывает человека. Неправда, — подумал я, — еще как воспитывает, образумляет».
С Михаилом Моисеевичем это оказалась моя последняя встреча. Больше свидеться не довелось. После монастыря пошли новые преступления, я вскорости опять загремел под фанфары и практически из тюрем и лагерей уже не вылезал. Черт его знает, никак не пойму: или милиция наша стала работать лучше, или я стал сдавать. Сейчас все больше молодежь стала выдвигаться на передний край преступной деятельности, а мы с нашими допотопными, старорежимными методами и приемами работы стали отходить на второй план.
Читать дальше