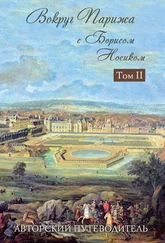Марат привычно разделил автобус на две соревнующиеся части и открыл певческое состязание. Марат был профессионал организованного отдыха и твердо знал, что человека, купившего путевку, нельзя бросать на произвол его собственных эмоций и природного веселья, иначе человек станет роптать. Идет ли массовый турист по райской долине или стоит на вершине горы, толпится ли он на танцплощадке или отдыхает после обеда, его надо охватывать оргусилиями, и тогда человек этот не будет жаловаться на скуку, на пренебрежение его отдыхом, на халтурную работу лиц, ответственных за его веселье. Певческое состязание началось в очень энергичном темпе со специфических туристических песен — одной русской («В огороде бабка, в огороде Любка…») и одной украинской («Ты ж мэнэ пидманула…»). Обе песни исполнялись не одну сотню раз за сезон и требовали от постороннего слушателя крепких нервов, мертвецкого равнодушия к искусству или полной глухоты. От исполнителя же требовались лишь энтузиазм и громкий голос (для того еще, чтобы перекричать соперников). Зенкович, подстрекаемый нелюбовью к массовому пению и мелким интеллигентским индивидуализмом, хранил молчание, хотя Шура несколько раз оборачивалась к нему, улыбкой и взглядом призывая поддержать ее усилия, а староста даже стукнул Зенковича дружески по спине — мол, давай, мол, не подводи свою подгруппу…
Спели практически весь репертуар, накопленный членами коллектива за свою сознательную жизнь. Из темных недр памяти всплыли кровожадные песни тридцатых годов про то, как «на Дону и в Замостье тлеют белые кости», про винтовку, которая бьет по врагу метко, ловко и, конечно, безо всякой пощады. Были также исполнены поэтический шедевр Рудермана, воспевающий четырехколесную пулеметную тачанку, песни о мире, о великом друге и вожде, о девчонке с чудо-косой, о Бухенвальде, Маутхаузене, Освенциме, Треблинке, о сверкающем Баку, героической Москве, родном Севастополе, родном Симферополе, родном Мелитополе и, конечно, о родной Одессе, которая знала много горя, о сказочном городе у самого синего моря, в котором плыл и тонул… Сперва исполнялись высокооплачиваемые шедевры песенной индустрии, а потом уж пошли, повалили как из рога изобилия совершенно бескорыстные поделки туристической субкультуры — о том, как в пещере каменной нашли бутылку рома, как через окно выбросили тетин чемоданчик и так далее и тому подобное — множество совершенно неведомых Зенковичу, но от этого не более интригующих шедевров.
Мы туристами родились,
Мы туристами помрем,
За туристов выйдем замуж,
Туристяток разведем…
Пели очень громко, очень бодро и ужасающе жизнерадостно (даже в тех местах, где погибал хороший парень, где горевала его мать или тлели белые кости). Пели с задором, с живинкой и с необъяснимым вызовом — кому-то неведомому, но враждебному, тому, кто не пел с нами или посмел бы усомниться в том, что нам, поющим, чертовски весело, что мы и есть неунывающий, насмешливый, туристический, ультрапатриотический народ…
Пение прекратилось только на стоянке, и Зенкович уже успел к этому времени четко сформулировать свою клятву: ездить только в компании глухонемых, должны же быть такие группы при Всероссийском обществе глухонемых, наверняка есть, — конечно, немые будут толкаться, жестикулировать, но уж петь — вряд ли…
В последнем на их пути населенном пункте староста внес в автобус десятилитровое ведро дешевого крепленого вина и объявил, что заготовки кончены. Хлопнув Зенковича по плечу, староста вручил ему ведро:
— На, друг, подержи, километров пять осталось, а то я опять напробовался… — Староста рыгнул.
— Может, поблюете на остановке, — мобилизовав весь свой гуманизм, предложил Зенкович, но староста с негодованием отверг его предложение:
— Я, друг, что б ты знал, — никогда не блюю… Рыгаю, это да. Потому что у меня кислотность. Мне можно только водку, а я сегодня, видел?
Автобус тронулся. Дешевый портвейн плескался в ведре, издавая мерзкий запах. По временам он своенравно выплескивался на брюки Зенковичу, и герой наш обреченно думал, что теперь уж он до конца похода будет пахнуть этим портвейном (в просторечье называемым «чернилами» или «бормотухой»), так как запасной пары брюк он с собой не взял, не желая перегружать рюкзак. Шура обернулась к Зенковичу и сказала сочувственно:
— Не люблю, когда мужчины сильно пьющие.
— Я тоже, — отозвался он сухо: ему не нравился ее рот. У нее были, в сущности, неплохой нос и неплохие глаза, но рот ее старил. Зенкович стал разыскивать глазами Люду, сидевшую впереди. В это время автобус тряхнуло, и новая порция портвейна пролилась Зенковичу на брюки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу