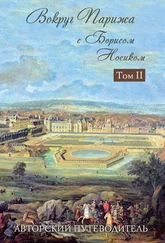— Вот вы и скажите об этом Владимиру Капитонычу, — сказал заплаканный старик Болотин, он же старик Ефросиньев. Он проревел сегодня все утро, оплакивая Риту и оплакивая себя, который был уже не жилец, и удивляясь тому, как же она, эта молоденькая девочка, которой он так доверял, умерла раньше него, у которого уже был на Востряковское кладбище сезонный билет (а сезон подходил к концу, и от старого Болотина оставалось все меньше живого тела).
Но когда Коля направился к Капитонычу, Болотин вдруг потянул его назад слабой рукой и сказал:
— Я все скажу сам, потому что мне уже все равно, кому и что говорить. Я скажу, хотя, конечно, я не смогу сказать так красиво, как вы сказали: вы настоящий Высоцкий.
Болотин, волоча ноги и шаркая по асфальту, подошел к шефу и сказал:
— Вы будете удивляться, Владимир Капитоныч, но я по поручению коллектива, и мы хотели сказать, что теперь, когда у нас умерла эта милая девочка… — Болотин остановился и долго сморкался в платок. — Так вот, мы хотели сказать, что Бог с ней, с агрессией, но есть такой русский обычай — помянуть хорошего человека, и хотя мне уже, к сожалению, совсем нельзя пить…
— Все понимаю, Григрьсеменыч, — сказал шеф. — Но я обещал парторгу, что наши будут…
Болотин обернулся, оглядел сотрудников, потом заговорщицки шепнул шефу:
— Пошли товарища Валевского, он там скажет им пару ласковых слов про мировой сионизм…
— Что ж, это, пожалуй, идея, — сказал шеф и повернулся к шоферу. — Валерий, отвезешь Валевского в Дом печати и приедешь сразу к Геннадию на квартиру. Понял? Без тебя мы не начнем. Да ты успеешь. Пока мы на автобусе доберемся…
Переговорив с Валевским, шеф стал пыхтя взбираться в демократический автобус.
И снова потянулись по сторонам микрорайоны, длинные ряды одинаковых желтых и серых, со следами досрочного распада, панельных домов, время от времени оживляемые гигантскими кумачовыми панно с надписями о насущных задачах борьбы за мир и повышения качества продукции. У закрытых на обеденный перерыв продмагов женщины, не дожидаясь повышения качества продукции, выстраивались в унылые очереди за той, которая еще оставалась в наличии.
И снова этот рожденный человеколюбием пейзаж был словно рассчитан на то, чтобы умерить в глазах проезжающих чрезмерную ценность этой жизни и примирить их с тем, что один из попутчиков покинул досрочно эту грустную юдоль крупнопанельного строительства, что и им тоже когда-нибудь предстоит…
Наконец они добрались до Орехова-Борисова, и Гена по каким-то ему одному известным предметам (может, просто по названиям улиц) узнал свой дом и велел шоферу остановиться.
Нина с Ларисой встретили их и сказали, что уже накрыто на стол. В натуральном свете дня новая Генина квартира выглядела вовсе уж голой и неприглядной, да и стол был, конечно, не тот, что в прошлый раз, может, потому, что его (все сразу это отметили) не коснулась умелая Ритина ручка: кучей стояли многочисленные бутылки водки, крупными ломтями были нарезаны неприглядная колбаса, плавленые сырки и хлеб… Слава Богу, хоть дымилось посреди стола блюдо вареной картошки (это была Нинина идея, которая имела большой успех).
После панихидных и кладбищенских мытарств, после долгой езды и осеннего холода все дружно налили водки в стаканы и так же дружно выпили за помин Ритиной души. А потом сразу налили по второй. Они взяли очень высокий темп, так что к приезду Валеры все были уже сильно выпивши — нельзя даже сказать навеселе, потому что с каждой рюмкой становилось не веселее, а, наоборот, все грустнее и грустнее, и каждому вспоминалось все то доброе, что ему сделала Рита, — у каждого нашлось что-нибудь такое, ведь добрая она была девочка и любила помогать людям.
Гена сегодня проникся особым доверием к обозревателю Евгеньеву, который больше других знал о Ритиной жизни и как-никак был ее муж, а потом ее друг. Он очень убедительно объяснил Гене, отчего все же Рита не хотела ребенка, просто не готова была к этому, хотела еще пожить на воле, а Гена стал рассказывать Евгеньеву, как он наконец решил, что позвонит ей в пятницу и все скажет, и как ему труднее всего было решиться насчет ребенка, потому что неизвестно же чей, но потом все же решил — решил, что все равно это Ритин, а значит, будет и его ребенок, главное ведь, чтобы с первого дня…
— Правильно решил! — горячо поддержал Гену Евгеньев, как будто решение это значило теперь что-нибудь или оно кому-нибудь на свете могло пригодиться. — Правильно решил, потому что я тебе скажу откровенно, я своего отца не знал…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу