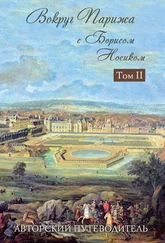Таня вошла с картошкой, увидела, что он смотрит в окно.
— Это тоже наш университетский дом, — сказала она. — Малосемейка. Все удобства и кухня — общие. С удобствами, впрочем, у них теперь сложно. Там в конце коридора было раньше по туалету. А потом их отдали под жилье. Пенсионерским парам. Поставили там столы над унитазами, койки по стенам. Тетя Маша ко мне ходит, они с мужем в такой живут…
Гена сказал испуганно:
— Там, напротив, большая семья, я видел…
— Да, семьи растут… Садись есть. — Она посмотрела на него вдруг ласково и насмешливо. — Ишь ты, впечатлительный. Наш собственный корреспондент… А ты умеешь говорить бодрым голосом и с надрывом, будто ты хочешь перекричать шум великой стройки?
— Я не на радио, — обиделся Гена. — Я… — И вдруг запнулся, вспомнил свою «Богородскую новь», ткачиху… Все одно, все говно, суета сует и говней говна — кто это говорит? Ну да, Юра из «Работницы»: а уж что он сам лепит, Юрик, какой «вкусный кусочек» он отлудил к шестидесятилетию — волосы дыбом.
— Выпьем, — сказала Таня. — Должен же кто-то из нас сказать это заветное слово.
Они выпили и согрелись. Она была розовая и вовсе не такая зануда, как в библиотеке, — и лицо хорошее, и бок мягкий. Она сама первая его поцеловала, но они продолжали все так же сидеть и разговаривать — обо всем. Он спросил, счастлива ли она, и она сказала, что да, очень часто: и здесь, вечерами, даже одна — с книгами, музыкой, — и там, на работе.
— Я была, например, счастлива сегодня, когда ты нашел карандаш, а я поняла, откуда он… Я все себе очень четко представила. Он ведь был намного старше своей Елизаветы, Василий Андреевич, лет на сорок, и он был потрясен, когда выяснилось, что она давно его любит, с детства… Потом все пошло хуже — она болела, ударилась в мистику, он не мог уехать в Россию, а в доме все говорили по-немецки. Приезжал Гоголь, тоже очень грустный — в хандре, в исступлении… Зима, дождь. Пустой замок, ей все чудятся привидения, и вот он читает путеводитель, мечтает, как летние горы потянутся по сторонам…
— Он был влюблен, он добился счастья и он стал несчастен?
— Что ж, целый год он был счастлив. А если б и не год — если б неделю, что с того? Мы вовсе не рождены, чтоб быть всегда счастливыми. Как птица для полета — это очередная глупость Максимыча. Есть, конечно, такие беззаботные птахи, но не здесь, не в наших краях — может, какие-нибудь там неаполитанцы…
— Или тбилисцы… Или горнолыжные инструкторы.
— Может быть.
Они перешли беседовать на диван и почти допили бутылку. Он зевнул. Она сказала просто:
— Вставай, я тебе тут постелю.
— А себе? Где себе?
— Что ж, и себе там же. Больше негде.
Она не была избалована лаской, и Гену сперва покоробил ее энтузиазм: она не сдавалась, не страдала, не маялась, не таяла, как Рита, — она бурно соучаствовала в удовольствии, в ней были, на его вкус, избыток инициативы и совсем мало уменья. Зато потом, после всего, они еще долго разговаривали в постели, и он не выдержал, рассказал ей все о Рите, о том, что у них случилось, и она поняла, а поняв, вопреки его ожиданию, одобрила его реакцию и поведение. И даже его безобразный поступок на улице одобрила.
— А что, разве ты не уверен в своей правоте? Это ведь очень нехорошо, то, что она делала. То, что она вообще делает…
Поддержка эта, как ни странно, его вовсе не успокоила, наоборот, разозлила, и тогда он стал говорить Тане злые, незаслуженно обидные слова, как будто она нарочно хотела его унизить.
— Ну а чем она хуже других, Рита? — сказал он вдруг, неожиданно для себя. — Все такие.
Она задохнулась. Потом сказала совсем тихо:
— Ты имеешь право сказать мне так, потому что я сразу повела тебя домой, потому что я вела себя… У меня нет никаких доказательств, что это случается не со всеми, не каждый месяц и даже не каждый год…
Гена подумал о том, насколько ему безразлично, каждый или не каждый год выпадает Тане такой удивительный случай. Он с грустью думал о том, что вот она привела его к себе, а Рита в это время тоже привела кого-нибудь, и ничем она не хуже, Рита, а главное, дело даже не в том, хуже она или не хуже, главное заключается в том, что он все время о ней думает и не может ее забыть, а раз так… Раз так, то что?
Таня отвернулась. Может, она спала. Или просто переваривала обиду. А Гена вспомнил, как он снимал тот самый первый Ритин портрет и она наморщила носик — сделала свою эту гримаску, а потом он смотрел дома на этот портрет, смотрел, смотрел — и вот тогда у них все началось, ведь случайно, мог бы он ее не снимать, мог бы снять еще кого-нибудь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу