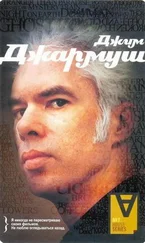Она была рада помочь Дэниелу устроить эту поездку, надеясь, что он прогостит у друга все лето. Если Семь Лун согласится, она попросит Улыбчивого Джека дать ей три месяца каникул. Ей нужно было отдохнуть. Забота о надежном доме никогда не была в тягость Эннели, но постепенно превращалась в рутину. Дэниел с его невероятной жаждой знания и действия очень радовал ее, однако и утомлял не меньше. Чем реже приезжали гости, тем труднее ей становилось находить время для себя, поддерживать собственный внутренний ритм, ощущать себя собой. Особенно беспокоил Эннели недавний прилив чувственного влечения к сыну. То ли это был просто единственный выход для возросшей после прогулки под дождем чувственности, то ли какая-то особенная черта их отношений, а может быть, так бывает со всеми матерями, у которых есть сыновья в подростковом возрасте, в этом облаке превращения из мальчика в мужчину. Дэниел был высокий долговязый мальчишка, голубоглазый и жизнерадостный, но это не помогало. Недавно Эннели увидела его голым. Это зрелище взволновало и смутило ее. Эннели знала, что никогда не даст волю желанию, и ее беспокоил не страх поддаться ему, а постоянное напряжение, необходимость все время сдерживать себя. Она так хотела отправить сына к Семь Лун, что оставила Улыбчивому Джеку телефонное сообщение с просьбой связаться с ней как можно скорее.
Могла бы и не оставлять. Вечером, когда они с Дэниелом вернулись из Сан-Франциско, Улыбчивый Джек уже улыбался им из-за кухонного стола. С ним был новый гость, первый, кого Джек привез лично, — красивый мужчина лет тридцати пяти по имени Шеймус Мэллой. И все тотчас же изменилось.
Шеймус Мэллой был профессиональный контрабандист, алхимик-металлург, вор-новатор и — боже ты мой — поэт с далеко не скромными достижениями. При своих шести футах двух дюймах он был чуть выше Эннели и на десять лет старше. Непослушные волосы песочного цвета, ярко-голубые глаза с прямым открытым взглядом, звучный баритон, ласкающий длинные гласные и слегка катающий «р». Была в его привлекательном облике и одна необычная деталь — черная перчатка на левой руке.
Эннели он сразил.
Дэниела заинтересовал и немного испугал своей таинственной притягательностью, но не настолько, чтобы прогнать любопытство насчет черной перчатки. Эннели не раз говорила ему: если ты хочешь что-то узнать, не бойся спросить, но сейчас он видел по ее поведению — откровенно глупому — что прямой вопрос про перчатку ее расстроит. Надо быть умнее. Дэниел дождался, когда Улыбчивый Джек вышел, а Эннели, без конца отбрасывая волосы с лица, ушла на кухню готовить чай, который никогда не пила. Тогда он как бы между прочим спросил Шеймуса:
— Вы давно увлекаетесь соколиной охотой?
И тут же пожалел об этом. В него уперся твердый прямой взгляд пронзительных голубых глаз. На кухне засвистел чайник, сперва тоненько, словно чей-то дух в дымоходе, потом все громче, переходя в резкий свист. Повисла неловкая пауза.
— Дэниел, ты о чем? — спросил Шеймус. Тон был вполне доброжелательный, но в нем слышались раздраженные, вызывающие нотки.
— О соколах, — Дэниел знал, что Эннели их слушает. — Мы с мамой целый год изучали хищных птиц. Этот класс так и называется — raptors, хищники. Интересное слово, да? Похоже на «восхищение».
Не сработало.
— Да, слово забавное. От латинского raptor, что значит «похититель», происходит из корня rapto, «хватать». Оттуда пошли слова rapt и rape, «восхищение» и «насилие», два разных типа захвата — один участник охоты охвачен радостью, другой подвергается нападению. Но скажи мне, Дэниел, какое отношение этот этимологический экскурс имеет к моей соколиной охоте?
Из кухни вернулась Эннели с чаем. Чашки уже стояли на блюдцах. Дэниел явно влип.
— Ну, — сказал он, изображая детскую непосредственность, — это же перчатка для охотничьего сокола, разве нет?
— Нет, Дэниел, — голос Шеймуса стал холодным и ровным, как замерзшее озеро. — Перчатку я ношу, потому что рука изуродована. Шрамы от ожогов.
— Как вы ее обожгли?
— Опрокинул колбу с расплавленным серебром.
— Вы всегда ее носите?
— Да. Без перчатки она вызывает у людей нездоровое любопытство, а потом отвращение или жалость — куда более отвратительную, чем мои шрамы.
— А вы ее снимаете, когда…
— Дэниел! — взвилась Эннели. — Хватит. Начал с бестактных вопросов, теперь прямая грубость…
Дэниел снова вернулся к невинному тону, в котором звучал теперь испуг и раскаяние.
Читать дальше