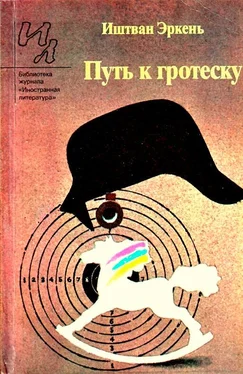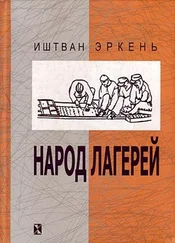Он был совсем не такой, как на телеэкране: во-первых, меньше ростом, а во-вторых — совершенно седой. У него на лице тоже виднелось несколько родинок, но совсем маленьких, словно они были детьми кустистых украшений мамы Розы. И те же, что у нее, голубые глаза, и та же улыбка, от которой в уголках глаз и рта собирались морщинки, точно их нитками тянули книзу.
— Доктор Орбан, если не ошибаюсь? — спросил он.
— Да, это я, — с трудом переводя дыхание, ответила я.
— Я слышал о вас много хорошего, — сказал он.
И тут, как назло, я разревелась. Повернулась к нему спиной и с ревом бросилась бежать. Платка при себе у меня не оказалось, я размазывала слезы по лицу, и все это — на глазах у больных и посетителей, которые пялились мне вслед, на виду у санитаров, которые выносили тело старого крестьянина, и у старшей сестры Беллы, с которой мы столкнулись на лестнице, и у той уборщицы, которая вчера в полдень мыла окна в ларингологическом отделении. Все они, выкатив глаза от удивления, таращились мне вслед, а я с ревом пронеслась через весь коридор, взлетела по лестнице, захлопнула за собой дверь и повалилась на стол в кабинете Руди.
Через какое-то время раздался стук в дверь. Я подумала, что это товарищ Ш., и не ответила. Но дверь отворилась, и в комнате вспыхнул свет.
Это был не товарищ Ш. Вошла уборщица, которая мыла окна в ларингологическом отделении.
— Что случилось, доктор? — спросила она.
— Ничего не случилось! — сказала я.
Но мои слова прозвучали не слишком-то убедительно, поскольку сидела я впотьмах и с зареванной физиономией — на стеклянном покрытии стола собралась целая лужица.
— У меня ведь ко всем замкам есть ключи, — пояснила уборщица. — Вот ваш анализ, — сказала она и вручила мне желтый конверт.
Я встала. Вскрыла конверт. Прочла написанное. О, сладостная жизнь, сладчайшая из сладких! Да может ли быть что-нибудь сладостнее тебя!
— Что там написано? — спросила уборщица.
— Ничего не обнаружено, — сказала я.
— Можно взглянуть? — поинтересовалась она.
— Разве вы в этом разбираетесь? — спросила я.
— Это я-то? — спросила она.
Она прочла результат анализа. Сказала, что поздравляет меня. Затем оглянулась по сторонам и придвинулась ко мне поближе.
— У меня на всякий случай припасена сливовая палинка, — шепнула она. — Ежели человек страху натерпелся, то беспременно помогает… Принести?
— Спасибо, — сказала я. — Сейчас не хочется.
— А чуть погодя?
— Потом, может, и захочется.
— Я ведь тут живу, при больнице, — шепотом продолжала она. — От раздаточной аккурат направо.
— Еще раз благодарю, — сказала я.
— Как только надумаете, так в дверь и стукните, — сказала она.
— Спасибо вам за доброту, — сказала я.
Она махнула рукой и на цыпочках удалилась.
Какое-то время я сидела у письменного стола и ни о чем не думала. Затем прошла к себе в комнату. Сварила кофе. Затем сходила в душ и с головы до пят переоделась во все чистое. После этого я вернулась в кабинет Руди и выкурила американскую сигарету. Я попыталась читать, но понимала текст только наполовину, будто каждое второе слово было лишено смысла. Битый час я проторчала над книгой, а затем неожиданно вдруг придвинула к себе телефон и по междугородной вызвала общежитие музыкантов имени Ференца Эркеля. Все время, пока я мучила себя чтением, я чувствовала, что мне необходимо еще что-то сделать, вот только я не знала, что именно.
В трубке долго никто не отзывался. Наконец подошел кто-то, очевидно комендант общежития. Начал разговор он очень сердито, но после первой моей фразы: «Говорит доктор Илдико Орбан из витайошской районной больницы», сразу же подобрел. Когда среди ночи раздаются звонки из больницы, тут настолько попахивает смертью, что даже и разоспавшемуся человеку становится не до сна.
Комендант отправился за Никосом, но в комнате его не обнаружил. Я поинтересовалась, где он может быть; собеседник ответил, что понятия не имеет. По счастью, у Руди был будапештский телефонный справочник.
Я позвонила в бар «Ривьера». Там Никоса не было. В «Табан». Там его тоже не было. И в «Алабаме» тоже. Все эти разговоры проходили отнюдь не гладко: мне приходилось выдерживать упорные бои, прежде чем удавалось втолковать его имя. «Менелай Никос Евангелидес» звучит чрезвычайно красиво, но для швейцара или гардеробщика, да еще по телефону — не слишком-то вразумительно.
Я прозвонила половину месячной зарплаты, когда наконец в одном ночном заведении у меня переспросили:
Читать дальше