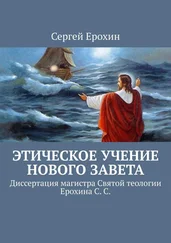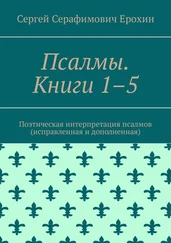(Звонок вечером в день похорон:
— Ты прикладывалась к руке?
— Да.
— Она была тёплая?
— Тёплая, я ещё удивилась.
— Да, и Ася тоже говорит: такая тёплая и пушистая рука, живая. Меня пронзает:
— А вдруг ошибка? И он живой?
— Нет, я о другом. Дух ведь дышит, где хочет? И он послал его в руку — нам в утешение — теплом. Ошибки быть не могло, ведь было же вскрытие, судебная экспертиза. Это он для нас, нам — последнее тепло. Понимаешь — вопреки естеству... ни одна волос не упадёт с головы вашей без воли Отца.
Седой волос его, в окровавленной земле. Запах крови шёл от земли. Мы собирали её с детьми, и две собаки — свидетели его умирания — глядели на нас, безмолвные, сквозь полосы забора.
Он умер под забором, и жена не узнала его. Подумала, что это пьяный. "Я не знаю этого человека."
Шёл как-то разговор о смерти. Отец сказал: "Я хотел бы умереть один".
Он умер один, под небом, и только собаки... Одна из них была из моего сна: пустой, без иконы, аналой в центре нашей церкви, я лежу ниц у аналоя и плачу беззвучно, гладя — сильно, запуская руку в рыжеватую шерсть, — большую собаку, которая тоже плачет. Мы с нею вдвоём только и знаем из всех здесь — о нем, и его оплакиваем. Потом я её увидела въяве, когда мы с детьми собирали землю.
Кровавая эта земля должна быть зашита в антиминс, мы могли бы служить на ней литургию. Литургия на крови. Спас на Крови.
Листья, окрашенные кровью. Кровью помазанный косяк калитки (может быть, тянулся к звонку — сползающий след пальцев). Чтобы ангел смерти не поразил первенца... Жертвенный агнец, жертва. И лежит он — справа, со стороны алтаря, где жертвенник. Сам — жертвой на каждой нашей литургии. Плотью и кровью.
"Это венозная кровь, тёмная. Я не мог смотреть, как по ней ходили милиционеры, топтали её ботинками. Я собрал её в большой целлофановый пакет, она была как .студень — кровь свёртывается. Мы вылили её на дно могилы". "Ты видела когда-нибудь, как хозяйки выплёскивают воду из таза? Столько же было крови. Её засыпали песком, но она все равно выступала".
Воля Отца. У меня была убеждённость, что это — сговор. "Так в вышнем суждено совете." Моё возмущение, в мысленном с ним разговоре: "Отец, для чего вы устроили весь этот спектакль?"
Его седой волос, с листьями, окрашенными кровью, ветки, кровавый песок — всегда на моем столе, в коробке со стеклянной крышкой, у икон.
"У вас же и волосы на голове все сочтены. " Мы были — его Гефсиманский сад. Вечный гефсиманский сон (наш). "Не могли вы побыть со Мною один час..." Отче мой, для чего Ты Меня оставил? Отец — он. Он же — возлюбленный сын Отца. — А вы за кого почитаете Меня?
"Ну что ж, поезжайте. А мы тут будем жить своей жизнью..." — мне, в ответ на просьбу благословить закордонное путешествие. И, за полгода до того, когда я, примчавшись из странствий, излагала ему свои резоны несовершенства нашего детского Рождества: "Но ты же уехала". Жене моего брата, решившей, наконец, креститься у него, по возвращении из Святой Земли: "Теперь вы креститесь во Иордане". "И вы не захотели".
Электричка, уходящая без него. Кровь. Спас на Крови. Образ Нерукотворного Спаса. Я возмечтала об ордене рыцарей примирения. На крови. Красные плащи, кроваво-красные хитоны. "
"Это венозная кровь, тёмная". Осташвили на крыше, наблюдающий похороны. И убивающие вас будут думать, что тем служат Богу. Спасатели России?
И тьма настала по всей земле. И мы ехали по всей земле в черноте машины, в черноте ночи. "Ты знаешь, что мы его больше не увидим?" Я не слышала, потому что одна мысль стучала в голове: ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ. Страшнее этого ничего уже никогда не случится.
Кровавая заря вставала над всей землёй, виденной из самолёта. Кровавое утро. В небе — над всей землёй.
Миша. Заплакал, нас увидав на церковном дворе. Вместо "здравствуй" — увидев другого — на плечо — и плакали, уткнувшись. Бегущая — вбегая в притвор, с розами, — Аня — огромные глаза — и кинулась ко мне, заплакав.
Час молитвы. Миг его смерти и минуты его смертного пути по тропинке должны быть для нас — колоколом в сердце, внутренним будильником. 6.40 утра — миг смерти и нашего утреннего предстояния.
Сколько раз, ещё при его жизни, я клялась себе вставать не позднее семи — ради верности его бодрости, как незримый дар ему, как знак благодарности. И потом, в первые посмертные дни, думала, что это — проснуться в миг его смерти — будет легко. "Бодрствуйте и молитесь..." Но сон сковывал, и предавала его, и предаю по сей день.
Читать дальше