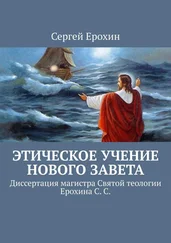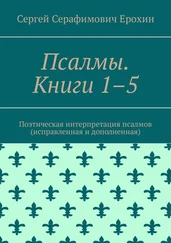Я мечтал о море и возле него томился, что не увижу его когда-нибудь — скоро, потому что жизнь протекает в иных, земных и городских, прочно ввязавших в себя местах. И недавно увидел его во сне — страшным, мистически страшным, ужасным и ужасающим — своей чуждостью человеку. Так страшно и одиноко потерпевшему крушение в океане, откуда уже не выбраться никогда. Так страшила меня Россия — клаустрофобией огромных и замкнутых, или готовых сомкнуться пространств.
Она не выпускает. Или не впускает. Или даёт течь или брешь, которую вот-вот залатают тюремщики. И человек вроде меня — вольный духом и болезненно привязанный к прошлому — мечется внутренне», внешне неподвижный: мышеловка захлопнулась? И что будет там, внутри ограды? Гурьбой и гуртом? Под собою яе чуя страны?
"Там". А было — "тут". Яко в чреве кита Иона. Огромная, обволакивающая или — если вырвался — непроницаемая страна. Ощетинившаяся зубцами кремлёвских стен.
Страшна была последняя — ночная прогулка по Тверской, по площади Красной, вытороченной. Казалось, что все умерли, кроме часовых у склепа с вечно живым мертвецом. Казалось — ибо люди были живы, и я знал этих людей.
И один из них, шедший рядом со мной, плоть от плоти этой земли, твердил, что оставаться глупо. А сам мечтал вновь очутиться на кладбище, где ему почему-то уютно среди милых его сердцу праотеческих могил. Не на Западе, а на русском кладбище, а уж если на Западе, то все равно на кладбище — Sain te-Gene vie ve des Bois, которое — русское, белое, парижское — он готов столь же усердно, как тульское, классифицировать и изучать.
На Sainte-Geaevieye захоронена Россия — не мнимая, вытороченная красным лихолетьем, а та, что мнилась мне и угадывалась в особняках Москвы и старых, с крестами "ятей" книгах.
На прощанье Россия целует тебя — и оставляет в сердце своё жало.
Прививка от беженства.
Русские очень талантливы и вечно занимаются не своим делом: учитель пишет роман, а писатель берётся учить всех.
В вагоне метро раздавался нетрезвый голос слегка знакомого поэта:
— Говорят, скоро китайцы придут и поставят над нами японских надсмотрщиков. Уж я у русских спрашиваю: "Что думаете делать, ребята?". Они говорят: "Будем пить, пока все не вымрем". Я — к татарам. Те — то же самое...
Поэтесса спросила у Феликса Чуева:
— Феликс, как ты думаешь, в Союзе писателей кагэбэшников много?
Он тонко усмехнулся и сказал:
— Не знаю. Но я надеюсь, что они там есть.
— А кто у нас будет Генеральным? (Звенели траурные марши в тот бурливо весенний, напоённый солнцем день.)
— Будет Горбачёв, — уверенно ответил Феликс Чуев.
— А не Романов?
— Нет. Он слишком правый.
Но это ладно...
А вот в апреле 1991 года библиотекарша в Париже рассказала мне о промелькнувшем в газетах сообщении: что СССР скоро не будет, а вместо него возникнет СНГ.
Теперь объясните мне, пожалуйста: откуда, за четыре месяца до путча и за восемь — до Пущи, — заграничная пресса могла об этом знать?
В пушкинском автобусе была обычная давка, а также и какое-то необычное возбуждение. Все что-то тихо обсуждали. Вместе с толпой я вывалился наружу возле церкви.
— Слышал? Горбача-то скинули, — сказала вместо приветствия Зина-регент, держа на отлёте тяжёлую сумку с нотами. — На, отнеси на клирос.
Над окраиною городка вставал кровавый дымчатый рассвет.
От храма бросился, платком вытирая распаренный лоб, растерянный дядя Серёжа:
— Володя, говорят, сняли Горбачёва... А сейчас какой-то Минаев...
Дело было привычное — ещё со снятия Хрущёва (и тоже дождались отъезда в Крым, и так же подтягивались войска — все та же "дикая дивизия").
"Глас грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижеся я трепетна есть земля,..
Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижатся во век...
Горы окрест Его, и Господь окрест людей Своих, от ныне и до века."
Отслужили литургию, народ стал расходиться. На асфальтовой дорожке, обтекаемый толпой, стоял невозмутимый бородач — тот самый, кто в своё время на вопрос, почему нас всех до сих пор не пересажали, хладнокровно отвечал: "Государству некуда спешить" — и был в общем-то прав.
— Зачем же ты, Володя, вернулся из Парижа? — сказал он мне со странной укоризной. — Теперь ведь уже не попадёшь...
По телевизору и вправду показывали "Лебединое озеро". Потом выступили путчисты, пьяные в дупель — это было заметно даже на экране. У Янаева дрожали руки. С краю за длинным столом сидел мой старый знакомец Борис Карлович Пуго — он возглавлял в 1972 году делегацию комсомола на фестивале в Болгарии, куда я ездил с университетским оркестром. Теперь он был министром внутренних дел — главным тюремщиком страны. Рожи у них были, как на подбор: хоть в зоопарке показывай. Было не очень понятно, чего они, собственно, хотят. И должности у всех были — высшие в государстве: председатель Верховного Совета, министр обороны, начальник КГБ... Загадочный был какой-то путч — вся власть и так у них в руках... .
Читать дальше