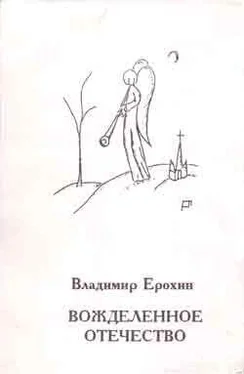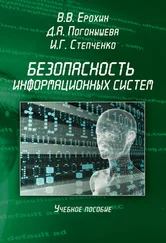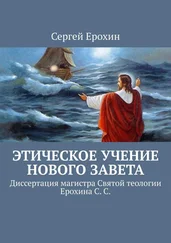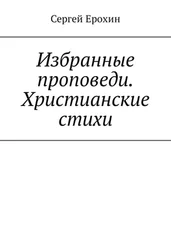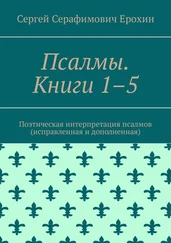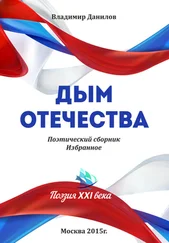"О неспетая Мати, рождшая всех святых святейшее Слово!" Так и ушёл он на небеса, как ходил по земле, — тихо и незаметно, достойно и легко. Отпевали его в иерейском облачении (от которого в жизни он за годы безвременья отвык) в Елоховском патриаршем соборе, при большом стечении людей — чего он до смерти стеснялся и по возможности избегал. В Елоховском — так уж получилось по местоположению, где застал его смертный час. И осталось в сердце церковное пение, которому отец Сергий меня обучил.
"Пасха, Господня Пасха!" Регентовал знаменитый Осоргин, Николай Михайлович, чей отец — основатель династии — купил эту землю под Сергиевское подворье вместе с домом и храмом, в то время протестантским. "Радостию друг друга обымен... "
У нас в Новой Деревне, как и повсюду в России, храм на Пасху охранял наряд милиции, и это считалось почётной службой, куда назначали в знак поощрения. Угощал милиционеров отец Александр Мень, бывший в ту пору вторым священником. Они, конечно, отказывались, но только так, для приличия. Вот и в атот раз пошли в сторожку — все, кроме одного, в штатском, оставшегося сиротливо стоять во дворе. Когда отец предложил и его позвать, стражи наотрез отказались: "Нет, этот из Комитета, мы с ним пить не дбудем". Батюшка вынес бойцу невидимого фронта стакан и бутерброд, и тот тоже разговелся по случаю праздника. А за столом завязалась беседа.
— Вот все говорят: зачем милиция? — рассуждал Молодцеватый младший сержант. — А я в прошлом году дежурю и вижу человека, который показался мне подозрительным, потому что, войдя в ограду храма, стал выкрикивать антирелигиозные лозунги. Я — ребятам... Они его хвать под руки, а у него под мышкой — топор!
Десять лет я рассказывал друзьям на Пасху этот наш приходской анекдот...
Пока не вонзился в "нашу жизнь топор сентябрьским утром 1990 года.
Разговоры об эмиграции возникали в наших общениях, неизбежные, как потрескиванье угольков в печи.
Мень был категорически против. Но советовал съездить, посмотреть...
Кочевое лето: Франция, Россия, Святая Земля... Я вылетел из Иерусалима в Москву 9 сентября 1990 года, ещё не зная о том, что на рассвете этого дня отец Александр был убит.
Тьма, разлившаяся снизу, поглотила мою родину.
(Рассказ моей сестры)
"Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?"
Убит отец Александр Мень. Сумрачным ранним утром он вышел из калитки своего дома, чтобы идти к станции, на электричку — обычный его путь к церкви, где в этот день его ждали к исповеди.
Через десять минут у этой же калитки он умер, истекая кровью.
Убийца ударил его на полпути к станции, на тропе, сзади по голове топором.
Какое русское убийство! Будто из самых недр поднялась мистическая чернота. Какой-то сумасшедший, Достоевский Микитка, топор. И вся чернота российская, устремлённая в этот топор, в эту занесенность. Сзади.
Топор занесён был над его головой всю его священническую жизнь. Его хотела убить и родная РПЦерковь, в её загорском варианте, — за то, что еврей и не маразматик, как это принято в загорско-русопятском православии (в чем патриарх расписался, не поленясь упомянуть в послании к пастве о патриархийном несогласии с отцом Александром). Может быть, его убила православная чёрная сотня. У меня было ощущение, что его хоронят, оттеснив от всех, загородив иподиаконскими спинами, — со всею отвратительностью архиерейской службы — с коврами и ковриками, маханием свеч, лакейством: все чуждое нашей простоте служения с отцом Александром! — чужие; чужие приехали из Загорска, гнавшие его, убивавшие его.
Будто убийцы и хоронили, стаей ворон клекоча над гробом. Доклевывая, завывая, кликушествуя. И громкий шёпот любопытных старух, из любопытства впервые сюда пришедших поглядеть: "Царские похороны".
"Царя ли вашего распну? "
Отвратительные эти похороны, когда вокруг были чужие лакеи в иподиаконских перекрестьях на спинах — не знавшие и не любившие его — а если знавшие, то подавно не любившие, — ненавидевшие! — как сгустившаяся тьма, и тьма эта накинула покрывало на сияющее его лицо, мученический лик — лишая нас, детей, последнего утешения. И эта митра, надвинутая на измученную голову, — которая так не шла ему, и при жизни казалась терновым венком, чем-то безобразным, насильно нахлобученным на прекрасный лоб. Невольник православных обычаев, варварства, терпящий их при жизни, обречён был на такие проводы. Закрыт лик (по идиотскому обычаю накрывать лицо священника) — а любопытные шептали: "Что? Почему лицо закрыто? Изрублено лицо?" А мы знали, и те, кто ночью был в церкви при гробе, видели: лик его был прекрасен, как свет, — очень бледен, но живой, с чуть рассечённым у брови лбом — вероятно, от падения. Сияющее лицо единственным источником света в сгустившейся черноте — так запомнил мой брат, видевший его одним из первых, — они с другом ездили в загорскую милицию просить его тела, — как Иосиф Аримафейский у Пилата. И я была лишена утешения увидеть его — прилетела по телеграмме только к утру, к литургии, когда все уже было по чину. (Знакомая, ехавшая со мною на аэродром, сказала: "Ты знаешь, что мы его больше не увидим?" — и потом, видя, что я не придаю значения её словам, пояснила: "Священников хоронят с накрытым лицом". И я горевала об этом.) Но когда его несли хоронить, мимо меня, по тропинке вкруг храма, — я поглядела и увидела накрытый профиль, проплывающий мимо, и вдруг — будто взгляд: сквозь; взгляд — будто он подглядывает — мне, заговорщически и даже с юмором — вот, мол, видишь: несут. Я почувствовала интенсивность посланного мне — взгляда, подгляда — сквозь ткань! — совершенно явственно, и волна утешения хлынула, и пронзила — стрела — прощания-встречи. Мы ведь не виделись неделю, и я зачем-то уехала всего-то на пять дней в Крым; накануне его смерти, лечить дочкину астму. "С любимыми не расставайтесь." Почему-то нам очень не хотелось уезжать, и я в последний день, и в день отъезда, страшно жалела о том, что, вопреки обыкновению, не спросила его благословения на поездку — постеснялась беспокоить таким пустяком, думая: пять дней — такая малость, это ничего не изменит. Какое счастье, что телеграмма нашла меня и мы успели — к руке. Она была живая и тёплая.
Читать дальше