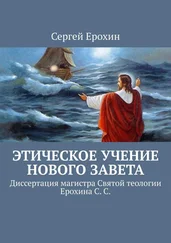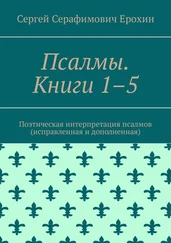Он, не откладывая дела в долгий ящик, тем же вечером отправился в ближайший "Гастроном". Начал с мясного отдела. Но хозяйка его обладала столь мощными габаритами, что закадрить её музыкант не решился ("вмажет — от стенки ложкой не отскребёшь"). Он двинулся к рыбному и там довольно успешно договорился с продавщицей о свидании.
— Как мы с мамой стали с тех пор питаться! Мы ели красную икру, чёрную, балык осетрины, крабов... Да и чувиха была — ничего...
Джазмен задумался, припоминая, а потом воскликнул:
— Но запах... Запах! Его не могли отбить никакое мыло, никакие духи!
— Как говорил великий Диззи Гиллеспи, если хочешь играть джаз, научись топать, — поучал нас хозяин биг-бэнда. И добавлял: — Молодость нам дана для того, чтобы хорошо играть в старости. Он почему-то особенно выделял меня: — Да, Володя, ты — великий баритонист...
Сам он славился в среде джазменов, которые говорили:
— Басист нормально играет. Их маэстро знаешь как выдрачивает!
В студии джаза объявили о субботнике.
— Он, сука, один раз бревно поднёс, — запричитал наш дирижёр, — а нам теперь к восьми-тридцати являться!
Молебен кончился, все стали подходить к руке священника. Подошёл и хор. Вдруг в тишине раздался оглушительный чмокающий звук — альтиха Галя приложилась основательно — взасос. Старенький священник взглянул на свою руку и, не удержавшись, по-детски громко рассмеялся: на тыльной стороне его ладони отчётливо пропечатались напомаженные губы благочестивой певицы.
— Как настоятель с тобой обошёлся, — сказал, прикуривая во дворе, регент Женя. — Я его даже мысленно послал...
А я так понял, что послать мысленно — это все равно, что наделать в штаны.
В церкви говорили, что землетрясение в Армении — это наказание Божие.
— А нам за что советская власть досталась? Все живут как люди, а мы — как свиньи.
Лето — хорошее время для начала войны, осень — для массовых репрессий.
Уже стрижка наголо ввергала бедного призывника в состояние шока. Он не узнавал себя в зеркале. Какой-то жалкий, исхудавший, уродливо-инфантильный вид. Как зек. Да ещё телогрейка и сапоги (в армию надевали что поплоше — все равно потом выкидывать — "там все дадут"; возвращались домой в военном, часто — краденом). Называли их презрительно-жалостливо "допризывниками". И они были в принципе готовы к нравам тюремной камеры, блатной шайки, в которую постепенно превращалась наша армия.
Русские гордились своей удалью, и это отразилось в анекдотах, мате-выручалочке и бесшабашном пьянстве. А потом поднялся такой фантастический мат и такое фантастическое пьянство, что стало уже не смешно. И картина, нарисованная Матерщинником в Матерном Его Слове, уже могла быть хоть и мрачноватой, но реальной, обрекая слушателя на статус раба — сына наложницы.
Время от времени в автомобильных катастрофах гибли партийные руководители Белоруссии.
Слово "советский" звучало постыдно — как "позорный" или "дурацкий" — за исключением, может быть, среды спортсменов. Наивные энтузиасты системы вызывали подозрение в грядущей нелояльности, ибо вся система была выстроена на лжи, а значит, наивных сторонников иметь не должна была. Посвящённые же говорили о ней с особой, им одним понятной блатной интонацией — смеси цинизма с фальшью и иронией.
Верой и правдой служить коммунизму могли или глупые, или бессовестные — такой вот шёл отбор.
Хиппи попали в ситуацию экзистенциально безысходную: они родились — и оказались внутри Совка.
Возле здания КГБ на Лубянке стоял в задумчивости длинноволосый небритый человек в распахнутой шинели — полубезумный художник, приехавший из Алма-Аты. К нему подошёл милиционер:
— Что вы здесь делаете в центре?
— В центре чего? — удивился художник.
Его мать написала министру обороны: "Я отдала вам сына здорового, а получила калеку".
(Он ударился головой о штык.)
"В центре чего?"
Но никому ещё не пришло в голову спросить: "За границей — чего?" Понятно, чего.
— Что вы можете сказать о фуге в связи с русским народом? — спросил у Ленки Цедерблом профессор консерватории. Лена терялась в догадках:
— Что она такая же великая? Щедрая? Добрая? Широкая? Могучая? Певучая?..
— Нет, все не то. Первая среди равных.
Этого даже изощрённый еврейский ум не мог себе вообразить. И поставили ей по специальности четвёрку.
Лена с отличием закончила консерваторию и студию джаза и стала работать аккомпаниатором в детском саду.
Читать дальше