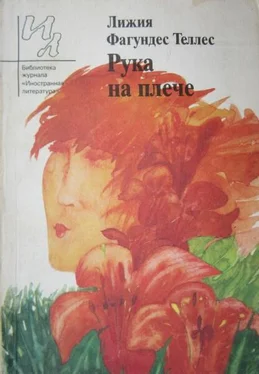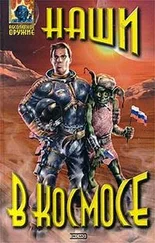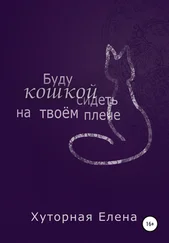Едва мы завернули за угол, как тут же застыли с раскрытыми ртами: под сияющим взглядом Селима перед лавкой важно прохаживался взад и вперед огромный рождественский Дед собственной персоной. Мы подошли ближе. Тряся колокольчиком, человек поглаживал ватную бороду и ласково обращался к сыну какого-то типа, у которого, похоже, водились деньжата:
— Ну, что ты хочешь попросить у Дедушки? А? Ну, деточка, подумай хорошенько… Мячик? А может, машинку?..
— Этого мужика я знаю, — процедил Полакиньо, прищуривая глаза. — Я его уже где-то видел…
Почувствовав, что за ним наблюдают, человек повернулся к нам спиной, раскладывая игрушки перед мальчишкой. Но мы описали полукруг и опять оказались перед ним. Он тотчас снова отвернулся, делая вид, что поправляет товар, вывешенный над дверью. Эта вторая его увертка нас насторожила. Мы подошли еще ближе с таким видом, будто нам на все это вообще наплевать. Рот и подбородок человека были скрыты ватной бородой. Красная шапка закрывала всю голову. Но эти сутулые плечи и эта походка?.. Мы его знали, сомнений не было. Но кто он? И почему избегал нас? Чего боялся?
Сейчас я думаю, что, если бы он так от нас не прятался, мы бы ничего не заподозрили: в конце концов, это был всего лишь очередной рождественский Дед, десятки их ходили по городу. Но это явное стремление не попасться нам на глаза — оно-то его и выдало. Нами овладело страшное возбуждение — он нас боялся. Никогда еще мы не чувствовали себя такими могущественными.
— Этот сукин сын из нашего квартала, — прошипел мне брат. — Голову даю на отсечение, что из нашего.
Полакиньо между тем внимательно изучал его ноги, стоптанные башмаки под клеенчатыми крагами, имитирующими сапоги. Ах эти башмаки! Огромные, съехавшие набок, совсем как у Чарли Чаплина, они были как бы вторым лицом их владельца. Никогда еще ни одни башмаки на свете не были до такой степени образом и подобием своего хозяина — отца Манеко.
— Марколино!
Он обернулся, как будто его ударили. И мы тут же покатились со смеху. Марколино — рождественский Дед! Пройдоха Марколино!..
— Марколино! Марколино! Снимай свою бороду!
От нашего открытия мы совсем ошалели: носились, скакали и, взявшись за руки, хором пели: «Мар-ко-ли-но! Мар-ко-ли-но!» Напрасно он пытался сохранить достоинство и продолжать свою роль. Борода и шапка больше не защищали его, и мы чувствовали его стыд. И его ярость. Две старухи в соседних домах выглядывали из окон и смеялись.
— Грязные воришки! — заорал Селим, бросаясь на нас с кулаками. — Прочь отсюда, бездельники! Прочь!
Мы кинулись врассыпную. Но тут же вернулись, еще более возбужденные, агрессивные, вместе с псом Фирпо, который носился вокруг с бешеным лаем и, как слепой, тыкался нам в ноги. Во всю мощь наших легких мы скандировали:
— Мар-ко-ли-но! Мар-ко-ли-но!..
И тогда он сорвал бороду. Сорвал халат и швырнул его на землю. И начал топтать их с таким бешенством, что Селим даже не пытался ему помешать. Это уже не была просто пьяная злоба, это была настоящая ярость, такая неудержимая, что мы вдруг испугались, особенно когда увидели его белое как бумага лицо. Страх заставил нас замолчать, и тут я впервые заметил, что Манеко бывает удивительно похож на своего отца, когда так же злится, что у него точно такой же смоляной шлем, спускающийся до самых бровей. Утихомирившись, Марколино повернулся и пошел прочь в своих стоптанных башмаках, с выбившейся из брюк рубашкой. Окна в соседних домах закрылись. Фирпо умчался, зажав в зубах красный колпак, а ветер тем временем разметал по всей улице остатки ватной бороды. Полакиньо подобрал несколько кусков ваты и, послюнив, прилепил к подбородку, но никому уже не было смешно. Мы снова вернулись к нашей сумке с лампочками и дверными ручками.
На следующий день перед лавкой Селима прохаживался другой рождественский Дед. Незнакомый нам. После обеда мой брат влез на дерево и устроился на самой верхотуре. Раздвинув листву, он поглядел оттуда на нас.
— Печка, а печка!
— Печка! — откликнулись мы хором.
— Хочешь пирожка?
— Пирожка!
— Сделаете все, как прикажу?
— Сделаем, как прикажешь!
Он немного подумал. И улыбнулся.
— Хочу, чтобы вы пошли в подвал к Манеко, крикнули два раза: Мар-ко-ли-но! Мар-ко-ли-но! — и прибежали обратно. Быстро!
Мы бросились на улицу. Дверь в дом, населенный беднотой, была едва прикрыта. Две толстые негритянки беседовали, развалившись на стульях, выставленных на тротуар. Мы осторожно толкнули обшарпанную дверь, но тут же застыли, потрясенные нищетой и беспорядком, царившими в комнатенке с почерневшими стенами и наваленными по углам старыми матрасами. Манеко был один. Он лежал на одном из матрасов; из дыр торчала солома. Он едва успел сунуть что-то под одеяло. В руках у него были ножницы. При неверном свете масляной плошки он показался нам совсем желтым, а черный шлем его волос был еще более непроницаем. Таким мы видели его в последний раз.
Читать дальше