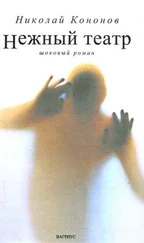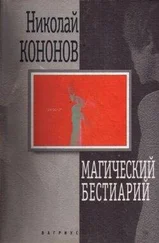Людей на берегу не видно.
Жарко, зеркало воды неподвижно, ни ветерка, ни тучи.
Лодку тихо сносит и разворачивает слабое течение.
Я тоже смотрю на нее.
На Элика.
На Лизаньку.
Меня волнуют ее соски, точнее, моя чудесная возможность их видеть.
Они словно закономерная деталь ее костюма.
А ее нагота мне кажется нарядом белой чистой телесности ее вида и облика, ведь кожа загорела только в вырезе сарафана, и он, скомканный, светлеет рядом по ее правую руку.
Словно мираж.
Когда я не смотрю на фотографию, я не могу представить себе ее позы, точнее, положения рук.
Держится ли она за борта лодки или понуро опустила их вдоль тела.
Я не помню.
Этот прямоугольный кусочек картона никаким образом не выражает для меня истории и времени – прозрачные заросли на волжском острове, лодка-гулянка, взятая напрокат, первый муж много старше Элика с любительским «Кодаком» на шее (аппарат сохранился, и им можно даже пользоваться). Но что принудило ее позировать голой перед этим деревянным ящичком с затвором на выдвижной гармошке?
Я пока не знаю этой причины.
Что меня ранит в этой фотографии?
Ракурс головы? Он какой-то театральный, кокетливый, не простодушный, – чужой, словно где-то подсмотренный и прямодушно скопированный, но он является той частностью, что задает куртуазное настроение всей фотографии. Он противоположен стеснению ее позы и вызывает недоумение, оставляя меня перед вопросом о эротизме, о случайности, о непонятных мне условностях какой-то игры.
Искренность ли это, развязность ли...
Этого мне не понять никогда, и это непонимание терзает меня.
Также не задевает зрения и высокий частокол черепахового гребня, словно нарочно воткнутый в свиток волос над макушкой. Мы с мамой нашли его в красной коробке. Он-то уж совсем ненужная декорация. Как и вся кокетливая, гладкая, с завитками у висков, кукольная прическа в испанском стиле.
Но маленькие девичьи груди с навершиями припухлых сосков...
Они волнуют меня так же сильно, как и белый след от выреза и бретелек сарафана.
Именно за этими горячими летними голыми деталями для меня стоит целокупность ее жизни: старый дом на Вольской улице, его уже нет и в помине, под окнами – палисад с расплеткой, мальвами, розовыми и белыми табаками, замкнутыми днем, и золотыми шарами, Элик на низкой скамеечке в траве под окнами перебирает мелкие вишни для пирога, косточки извлекает шпилькой. Наклюнутые воробьями – самые сладкие, чуть винные, – пойдут на компот. Тогда она (я не хочу употреблять слово «бабушка») еще не держала прислуги, а все делала сама – бодро и весело. В доме ее первого мужа постоянно околачивалась целая орава всяческих элегантных гостей, а он сам был то ли адвокат, то ли нотариус. «О, они, эти, – к случаю вспоминала она, не испытывая перед «элегантным» классом и тени пиетета, – весьма любят закусить расстегаями и попить белой, особенно за чужой счет. Все только: «Лизочка, сделай, Лизочка подай, да ты, Лизок, наша прелесть!»«
Все эти галдящие частности сулят сгущение атмосферы, они проносятся во мне, словно в предвидении грозового фронта, так как отводят мое внимание от главного, к чему боковое зрение против воли все время смещается, – к воплощенной тупой голой случайности этого фото, измышленного двумя людьми, нет, тремя, ведь еще есть я, такой же, как и они, соучастник.
Фотография банально лишена бесполезных аксессуаров (ведь ее первый муж был художником-любителем и знал примитивные законы построения картины).
В ней настырно нет ничего лишнего.
Только изображенная женщина как-то взрывает эту банальность.
Но только не наготой, которая – просто ее одежда, особенное чудное платье для жаркого волжского дня.
Будто я вижу какую-то невыносимо стыдную интимную деталь, попавшую в кадр.
Но ее там явно нет.
Она, эта женщина, своим присутствием, связью со мной нарушает единство и равновесие этой любительщины.
На фоне совершенно невыразительного клочка обычного волжского пейзажа, в большой раздолбанной лодке, усевшись птицей на перекрещенные жердины весел, она проникновенно смотрит на меня так, как никогда не взирала – ни в жизни, ни со всех своих фотографий вместе взятых.
Этот ее взгляд – как шрам, которого я прежде никогда не видел, хотя, разглядывая, знал, как мне казалось, абсолютно всю оболочку ее «душевного тела».
Эпидерма Психеи.
Или Сирены.
Я не знаю.
Манящий зов ее взора.
Как Сирена!
Но это не она!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу