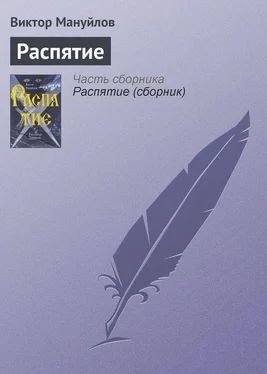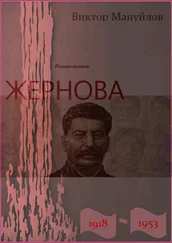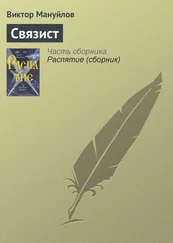В курилке поодаль от стоянки эскадрильи не только травили анекдоты, но и спорили до хрипоты о всякой всячине. Курилка была одна, в ней собирались и солдаты-механики, и офицеры-технари, в большинстве своем училищ не кончавшие, а оставшиеся когда-то на сверхсрочную, чтобы не возвращаться в колхоз на пустые хлеба, и дослужившиеся до офицерских погон. Были среди них и такие, кто хлебнул войны на фронтовых аэродромах, но в заслугу себе они это не ставили и ничем среди других не выделялись: ну, воевали и воевали, тем более, что в атаки не ходили и от фронта располагались на значительном расстоянии, так что и хвастаться нечем. Довелось бы вам — и вы бы не хуже.
Треп и споры всегда начинались среди солдат, офицеры чаще всего лишь прислушивались да усмехались, потому что солдатский треп шел вокруг жизни на гражданке, откуда они пришли и куда, отслужив положенное, уйдут, а для технарей гражданка была чем-то далеким и непонятным, забытым и полузабытым, как раннее детство. На гражданку они смотрели, как смотрит турист на чужую жизнь сквозь стекло автобуса: интересно, спору нет, но лучше жить своей жизнью, к которой привык.
В те поры как раз Хрущев с Жуковым начали сокращать армию, офицерский корпус в том числе, и все они с ужасом ждали, что вот-вот турнут их из армии на эту самую непонятную гражданку, особенно тех, кто без училищного диплома, и поэтому к солдатскому трепу прислушивались поневоле. Тем более что солдаты никогда не трепались о самой армии, где все — по их офицерским понятиям — шло так, как и должно идти, где все было не только вне критики, но и вне обсуждений, как нечто неприкасаемое, святое даже, что надо принимать таким, какое оно есть… или не принимать вовсе.
А время тогда веселое было, надо сказать. Веселое и ошеломляющее. Тут тебе и развенчание культа личности Сталина и ниспровержение кое-каких других понятий, о которых раньше и думать-то было страшно; тут тебе и целина и всякие грандиозные стройки; тут тебе и Суэцкий кризис и венгерские события; тут тебе и новая техника в войсках, да такая, что бывалые летчики и технари только покачивали головами. А еще мы, солдаты в особенности, чувствовали какое-то подспудное бурление и кипение в стране, которое выходило за рамки обычных официальных сообщений и которое долетало до нас с письмами из дому, — и это-то чаще всего и становилось предметом нашего трепа, наивного, как я теперь понимаю, но хоть что-то в наших душах да откладывающего.
Изредка заглядывал в курилку и майор Смирнов. Он справлялся о самочувствии, о настроении, о том, что пишут из дому. Треп в таких случаях стихал, и мы отделывались от замполита общими фразами, из которых становилось ясно, что у нас все в порядке и со здоровьем, и со службой, и с письмами из дому. А когда майор отходил, кто-нибудь обязательно произносил со значением: «Вот Антипов был — это да-а, это свой человек. А Смирнов… тоже мужик, конечно, ничего, но — не то».
Подполковника Антипова я застал. Мы в полк пришли из школы авиамехаников в октябре пятьдесят пятого, а подполковник ушел в отставку весной пятьдесят шестого. Тогда же, по весне, и Смирнов пришел к нам в полк: свято место пусто не бывает.
Подполковник Антипов рост имел высокий, голос громкий, как у старшины на полковом плацу. Казалось, что вполголоса он говорить не умел — слышно его было по всему аэродрому… если самолеты не мешали. При этом на одно нормальное слово у подполковника Антипова приходилось два-три таких, какие ни одна бумага не выдержит, а разве что забор на какой-нибудь отдаленной стройке коммунизма. Но странно: при нем почему-то никто бранное слово произнести не смел. Это была его исключительная привилегия. Вместе с тем он считался прекрасным рассказчиком. Самую банальную историю мог подать так, что мы покатывались со смеху. Тягаться с ним мог разве что механик Правдин, хотя обходился вполне подцензурной речью.
Но как-то мне довелось оказаться с подполковником Антиповым в невоенном обществе, и я с изумлением наблюдал, как он мямлит и путается в трех словах, не умея выразить самой простейшей мысли, а с языка его слетают одни только «значит» да «так сказать», «как говорится», «вот», «ну» и прочее. И еще я заметил, что если очистить речь подполковника от мата, если ее профильтровать, она теряет всякий смысл.
Нет, что ни говорите, а действительно, велик и могуч русский язык, если на этом языке можно выразить любую мысль, обладая лексиконом из десятка общенеупотребительных слов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу