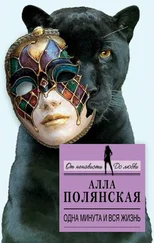— Почему?
— Потому что они более честолюбивы, — заключила Элеонора.
Это были последние слова, которые я от нее услышал. И не знаю, услышите ли вы еще что-нибудь от меня.
Комья земли вылетали из-под стволов деревьев. Высокие сосны склонялись над низкорослыми собратьями, чтобы общими усилиями вырваться из земли. Первые корни, показавшиеся на поверхности, шипели и извивались, словно ножки гигантских насекомых: выбравшись на землю, они сделали первые шаги. Некоторые деревья, потеряв корневую опору, зашатались и вот-вот упали бы, но вовремя подоспевшие товарищи поддержали их. Это было первое проявление солидарности среди деревьев.
Не с неба несется теперь страшный ветер, а с силой вздымается от земли.
Вот уже все сосны высвободили свои корни и движутся плотной стеной.
Начался марш деревьев.
(Музыка.)
ГОЛОС ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА,
(Говорит по-французски, чтобы деревья поняли его на этом последнем из международных языков.)
Que l’expérience
d’un monde qui s’achève, passe
au monde qui commence.
Arbres, écoutez! [89] Пусть опыт умирающего мира к рождающемуся перейдет. Деревья, слушайте!
(Глухой гомон собирающихся вместе деревьев.)
Connaissez-vous le nom trè vénéré? [90] Известно ли вам то, что чтимо более всего?
ГОЛОС ДУБА, ПРЕДВОДИТЕЛЯ ПЛЕМЕНИ ДЕРЕВЬЕВ.
Profondeur [91] Глубина.
.
ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА.
Nom sans objet.
Car profondeur n'est
que surface en formation [92] Понятье беспредметное. Ведь глубина есть лишь поверхность, что вот-вот возникнет.
.
(Ропот в бесконечном море крон.)
ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА.
Connaissez-vous la grande méprisée? [93] Известно ли вам то великое, что презираемо повсюду?
ГОЛОС ДУБА-ПРЕДВОДИТЕЛЯ.
Surface. [94] Поверхность.
ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА.
En elle tout est,
et reflète
sa face. [95] В ней все, и в этом всем отражено ее лицо.
(Пауза.)
De l'infini profond n’est vrai
que ce qui est appelé
à devenir surface.
Le reste est faux, où les matières divinisables
roulent sans lendemain,
et repoussées sans cesse
comme inutilisableas [96] В глубинах бесконечности лишь то есть истина, что стать должно поверхностью. Все остальное — ложь, боготворимые материи, что мечутся без завтрашнего дня и беспрерывно отвергаются как бесполезные.
.
(Пауза.)
СПРАШИВАЕТ ДУБ-ПРЕДВОДИТЕЛЬ.
As-tu quelque chose encore à dire? J’écoute [97] Ты хочешь что-нибудь еще сказать? Я слушаю.
.
ГОЛОС ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА.
Non, rien. Arbres, voici la route [98] Нет. Ничего. Деревья, вот дорога.
.
Он не в силах был унять охватившее его смятение. Он торопился. В этот непривычно ранний для него час Аницетона поразила галантерейная лавка сестер Бергамини: железная ставня опущена, тент свернут, а его оторванный край полощется на холодном ветру как крохотный, жалкий флажок. На улице ему повстречался один-единственный прохожий: какой-то старик шел длинными зигзагами, вычерчивая на тротуаре подобие молнии, и что-то невнятно бурчал себе под нос с озабоченным видом. Поравнявшись с Аницетоном, старик с удивлением вскинул на него глаза, церемонно приподнял шляпу и воскликнул: «Да здравствует молодость!» Аницетон вздрогнул, отшатнулся к стене и, ничего не ответив, зашагал быстрее.
Встреча со стариком лишь усилила царившее в нем смятение. Он остановился. Хотел было вернуться, но вовремя понял, что придется обгонять старика, ковылявшего еле-еле; а вдруг тот снова гаркнет: «Да здравствует молодость!» Ему стало не по себе. Сделав над собой усилие, он направился в сторону вокзала, словно навсегда расставаясь с…
Накануне он поставил будильник на пять. Быстро и бесшумно оделся. Перед тем как выйти, подкрался к комнате матери и прислушался. Из комнаты не доносилось ни звука; не было слышно даже тяжелого материнского дыхания. Видно, под утро ее сон и впрямь сбрасывал с себя ночную тяжесть и становился невесомым. Когда Аницетону случалось возвращаться домой за полночь, дом напоминал ему кузнечный горн, неровно пыхтевший стесненным дыханием. Аницетону было больно и стыдно. Ступая по коридору на цыпочках, он недоумевал, как этот могучий, животный рокот может исходить из такого щупленького, ничтожного тельца, тем более что в постели, уже без парика и вставной челюсти, в косынке с нелепо торчащими надо лбом концами — кроличьими ушками, мать выглядела совсем крошечной и высохшей.
Парадная дверь оказалась запертой. В углу лежала свернутая трубочкой циновка. На пороге он обернулся и выхватил взглядом почтовый ящик, на котором значилось имя матери: «Изабелла Негри». Он посмотрел на него так, как смотрят в последний раз на отчий дом. Виа Плинио была пустынна и пронизана еще ночным холодом. Уехать, не попрощавшись с матерью… Казалось, он оторвался от земли, от жизни, от чего-то родного и доброго и теперь свободно парит над миром, на свой страх и риск.
Читать дальше
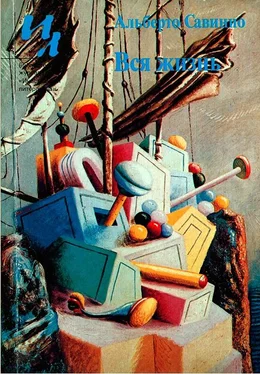
![Роберт Рождественский - Не надо печалиться, вся жизнь впереди! [сборник]](/books/32398/robert-rozhdestvenskij-ne-nado-pechalitsya-vsya-zhizn-thumb.webp)