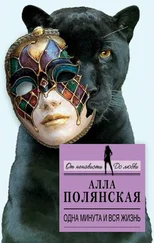Из многих музыкантов, которых он знал, лишь тот худощавый пианист — поляк или чех, он точно не знал, но, во всяком случае, иудей — лучше других умел его укрощать. Под молотящими ударами тех костлявых пальцев тогда еще молодой и полный сил инструмент трепетал как живой.
Ах, что это были за мгновения! Когда же пианист, весь мокрый, пошатываясь, вставал из-за рояля, струны еще продолжали дрожать под шквал аплодисментов.
Все это вспоминал старый рояль. И в страстном желании вновь почувствовать на своих пожелтевших клавишах прикосновение тех славных пальцев его корпус скрипел, словно дуб во время бури, и далекая, таинственная музыка пронизывала длинные металлические струны.
* * *
Коммендаторе Корпас, проживавший этажом ниже, встретил на лестнице кавалера Путиньяни.
— А знаете ли вы, что ваша дочь — необыкновенная пианистка?
— Ну, это еще только начало, — расплылся Путиньяни в благодарной улыбке. — Девочка она старательная и свое возьмет.
— Какое там возьмет! Да она просто гений, настоящее чудо! Вчера мы с женой буквально наслаждались ее игрой. Какая мощь! Какая легкость! Какая глубина чувств!
— Вчера? — озадаченно переспросил кавалер. — Но ведь вчера мы были во Фраскати…
* * *
За похвалами коммендаторе Корпаса посыпались дифирамбы от синьоры Струа с четвертого этажа; затем — от нотариуса с третьего, от бухгалтера со второго, от акушера с первого, от консьержки, от других соседей. Последние сомнения кавалера Путиньяни рассеялись. Фортуна улыбалась ему. В уме служащий налогового ведомства уже составлял прошение об отставке на имя мерзавца начальника.
* * *
Воскресенье. Семейство Путиньяни возвращается с утренней мессы.
На третьем этаже в душу кавалера закрадывается подозрение. На четвертом подозрение перерастает в уверенность. На пятом Путиньяни прижимает к себе жену и дочку. На пороге своей квартиры он шепчет:
— За мной, на цыпочках! — и распахивает дверь в гостиную.
* * *
На глазах у ошеломленных членов семьи Путиньяни старый рояль воспевает былую славу. Головокружительно подскакивают клавиши, длинные арпеджо проносятся по всей клавиатуре, корпус дрожит, как паровой котел, хвост рояля раскачивается, как у плывущего кита.
И музыка усиливается.
Басы лопаются с пронзительным визгом, струны извиваются словно змеи, молоточки фонтаном брызжут из корпуса рояля, войлочные подушечки реют по гостиной.
Музыка доходит до апогея.
Неимоверным усилием старый рояль поднимается над полом, повисает в воздухе и, выбив застекленную дверь, вдребезги разбивается о террасу.
Музыка смолкла.
* * *
Так, мягким осенним полднем, на террасе, сплошь в цветущей герани, старый рояль завершил свою славную карьеру под небом прозрачным и чистым, как око богини.
Весна 1944 года подходила к концу. Ночной Рим спал при погашенных фонарях. Приземистые ограды его парков протянулись длинными рядами беззубых десен: их железные решетки выкорчевали на военные нужды. Мы вынуждены были жить в условиях войны, противной самому нашему естеству, и напоминали людей, собранных в некоем здании, которому, ни для кого не секрет, суждено было рухнуть. Тем не менее эти люди сохраняли свойственные им присутствие духа и отрешенность от материального мира. Высшее доказательство незыблемости жизненных устоев.
В тот год, перед тем как уединиться на лето в своем хлебородном умбрском имении, мой друг Иджео Сиделькоре по обыкновению решил собрать у себя на вилле, что неподалеку от базилики Святой Аньезе, компанию старых друзей. Вилла Сиделькоре входит в знатное семейство прадедовских особняков, окруженных благородными деревами. Особняки эти, подобно стаду исполинского пастуха, рассеяны в нижнем течении виа Номентана. Владельцев виллы в свое время освободили от уплаты налогов, так как росшие в их садах эвкалипты были признаны действенным профилактическим средством против нашествий одноклеточного паразита, известного под названием плазмодий, и представляли собой целебный щит на подступах к городу.
Вечера в доме Сиделькоре были известны всему Риму; часто на них исполнялась изысканная, редкая музыка.
Я пришел чуть позже назначенного часа. Обе гостиные кишели народом. В гуще приглашенных я приметил сицилийского князя, слегка перекошенного на сторону по причине искривленного позвоночника; испанского пианиста, болтливого как сорока и проворного, как рекордсмен по машинописи, что выяснилось чуть позже за клавиатурой «Стейнвея»; искусствоведа Эрмете Фавонио в сопровождении дочки и еще пару мелких сошек. Среди последних выделялась одна девица необычайно высокого роста, изогнутая вверху, словно скрипичный гриф, к ней никто не подходил, настолько казалось, что она где-то там, в вышине, пепельно-русая с оттенком седины, окруженная ореолом изумления.
Читать дальше
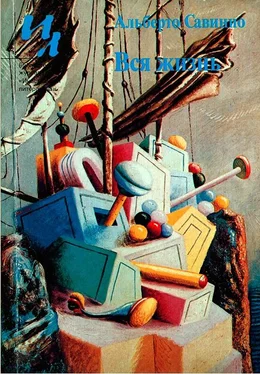
![Роберт Рождественский - Не надо печалиться, вся жизнь впереди! [сборник]](/books/32398/robert-rozhdestvenskij-ne-nado-pechalitsya-vsya-zhizn-thumb.webp)