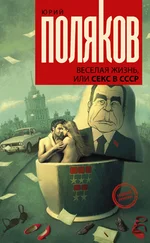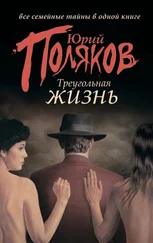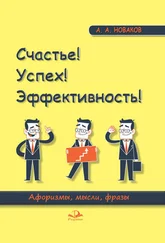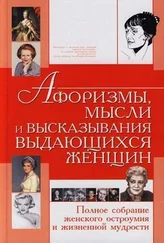В книгах обособленных афоризмов (настоящие из них, которые потом входят в «бесконечность», пишутся годами, а то и десятилетиями) автор перед читателями предстаёт как на ладони вместе со своим философско-эстетическим отражением жизни в целом и окружающей действительности, в частности. И картина авторского мира, пусть с какими-то даже существенными девиациями, вырисовывается, если не чётко фиксированной, то в достаточной степени определённой.
С вводными афоризмами дело обстоит гораздо сложнее. Но и гораздо интереснее. Путешествуя по вводным афоризмам, мы можем проследить, как автор от произведения к произведению творчески взрослел, умнел (или глупел, исписывался, но такой автор для читателей быстро перестаёт быть интересным!), как менялось его мироощущение и мировосприятие.
В предисловии к своему двухтомнику, вышедшему в 1994 году, пытаясь объяснить, почему под одной обложной помещены на первый взгляд произведения взаимоисключающие: «Сто дней до приказа» и «Между двумя морями», «ЧП районного масштаба» и стихи, «где те же подробности юности осмысливаются в ином свете», — Юрий Поляков пишет: «Никакого внутреннего противоречия тут нет, а есть всего лишь стремление хотя бы на самом элементарном уровне приблизиться к неоднозначности жизни».
Более того, неоднозначную, противоречивую картину жизни автор может рисовать даже в рамках одного произведения, вкладывая неоднозначные, противоречивые мысли и высказывания в уста разных — и не всегда главных!
— героев: друзей и врагов, единомышленников и антагонистов, людей порядочных и проходимцев, влюблённых и брошенных. И что интересно, вот как раз у Юрия Полякова практически ни в одном произведении (исключение составляет разве что Павел Николаевич Шарманов из «Неба падших») ни один персонаж-остроумец не является героем главным. Все они проходят этаким интеллектуально-златомудрым фоном, дополняя, выгодно оттеняя других героев и автора или споря с ними, по ходу действия подбрасывая огранённые фразы-алмазики (или пышущие жаром угольки) в ткань произведения.
Если внимательно приглядеться (и опять взять на вооружение старшую дочку математики — арифметику), то с точностью до… (впрочем, здесь достаточно точности до смысла), то невооружённым глазом видно — у Юрия Полякова от произведения к произведению герои-остроумцы до такой степени, как сказали бы политики — «наращивают своё присутствие», что в «Гипсовом трубаче» Сен-Жон Перс (которого никто из героев и в глаза-то не видел!) начинает восприниматься как реальный человек. И, читая книгу, постоянно, «как обнадёженный девственник» («Гипсовый трубач»), ждёшь встречи с ним, взывая к автору: «Ну почему Вы, Юрий Михайлович, не заставили его высказаться по этому поводу?.. А почему по этому?..» Но автору всегда видней! Мы лишь справедливости и математической точности ради отметим, что искрометнул Сен-Жон Перс 116(!) раз, что составляет абсолютный рекорд в гипотетическом соревновании с другими героями.
(Заметим, что впервые Сен-Жон Перс, тогда ещё как французский поэт-нобелиант, появился у Юрия Полякова при характеристике бывшего студента-филолога Рената Курылёва, одного из главных действующих лиц в «Демгородке» (август 1991 — октябрь 1993): «Он и здесь в свободное время Сен-Жон Перса читает!» И почти одновременно, но уже как прообраз будущего гипсовотрубачёвского златодумца, Сен-Жон Перс появляется в статье «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!» (октябрь 1993): «Как справедливо заметил Сен-Жон Перс, плохому президенту всегда парламент мешает».)
Вроде разобрались с «великим», «неутомимым», «занудой», «людоведом», «пессимистом», «всезнайкой», «старым хрычом», «харизматиком», «ворчуном», «эротоманом», «бабофобом», «злюкой» и т. д. (такими разноплановыми эпитетами награждает Юрий Поляков своего любимца Сен-Жон Перса), и можно переходить к другим героям.
Первым, кто заговорил афоризмами, был прапорщик Высовень в «Ста днях до приказа». Помните, «Дембель неотвратим, как смерть», «Это не служба, а цирк зажигает огни!», «Жизнь пронеслась мимо, обдав грязью…».
Ещё с остроумцами-военными в произведениях Юрия Полякова мы встречаемся дважды. В «Демгородке» (Генерал Рык, он же Избавитель Отечества): «Национальность гражданина определяется его любовью к Родине, а не длиной его носа», «Я всегда подозревал, что демократия — это всего лишь разновидность полового извращения!», «Народу, у которого соборность в крови, партии не нужны!». И в «Грибном царе» (замполит Агариков): «Жизнь любит наоборот», «Если ты такой умный, где твои лампасы?», «Страха бояться не нужно!», «Женщина — человек бессознательный: за оргазм Родину продаст!», «У женщин всегда всё позже!», «У ненадёжных барышень взгляд всегда с охоткой!».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
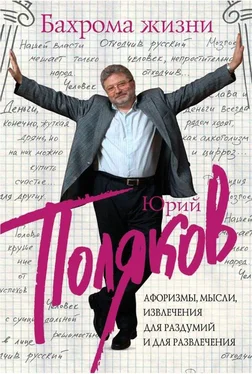
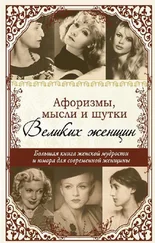
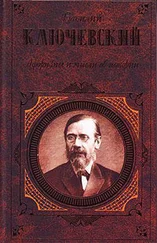

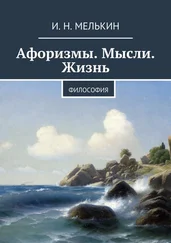
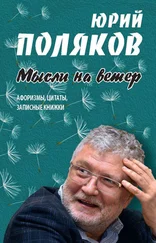
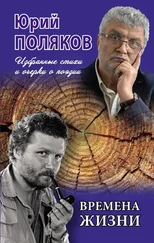
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/404949/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник]](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-thumb.webp)